Хочу заметить, что данная статья представляет собой скорее попытку интуитивного понимания поэтики Бродского, чем рационального ее объяснения. Мои интерпретации ни в коей мере не претендуют на объективность, трезвость, справедливость. Напротив, они крайне субъективны. Судя о стихотворении, я прежде всего проецирую его на некий его идеальный прообраз, уже сложившийся в моей голове. Как он формируется – я не знаю. Но этот идеальный прообраз для меня есть бесспорная реальность. Впрочем, я отдаю себе отчет в том, что для иных читателей, возможно, буду темнее Гераклита. А для кого-то – отвратительнее Герострата.
Пусть так.
Я хотел бы поговорить о живом в метареальности русской поэзии поэте. Мраморная статуя с бычьим цепнем лаврового венка на голове меня совершенно не интересует. Ко всему прочему, я убежден, что неумеренные, в едином порыве славословия в адрес Бродского есть не что иное, как ругань наоборот.
Каждый поэт, даже очень большой, всего лишь часть общей кровеносной системы поэзии. Вне этой системы он существовать не может. И картина влияний поэтов друг на друга, равно как и предшественников на последующие генерации, не менее сложна, чем картина кровотока в организме человека.
Поэт Бродский вырос не в пустыне, но в среде, более чем благоприятной для развития. Его растили всем миром, у него были не только питерские, но в первую очередь московские поэтические «дядьки».
Дни становятся все сероватей.
Ограды похожи на спинки железных кроватей.
Деревья в тумане, и крыши лоснятся,
И сны почему-то не снятся.
В кувшинах стоят восковые осенние листья,
Которые схожи то с сердцем, то с кистью
Руки. И огромное галок семейство,
Картаво ругаясь, шатается с места на место.
Обычный пейзаж! Так хотелось бы неторопливо
Писать, избегая наплыва
Обычного чувства пустого неверья
В себя, что всегда у поэтов под дверью
Смеется в кулак и настойчиво трется,
И черт его знает – откуда берется! <...>
(Давид Самойлов, «Элегия», 1948)
Не будет преувеличением сказать, что в цитируемых строках Самойлова совершенно отчетливо различимы константы поэтики зрелого Бродского: едкая ирония, сентенциозность, анжамбеман как стихообразующий прием, парная рифмовка. Кроме того, «Элегия» содержит впоследствии вполне стандартный для Бродского набор образности: серые дни, увядшие листья, туман, дожди и проч., и проч. Вообще серый, синий, стальной цвета воды в пасмурную погоду – основные цвета на его палитре. «Снаружи темнеет, верней – синеет, точней – чернеет...» Как будто в его детстве не было солнца. Вообще – не было. Стихи, переболевшие рахитом.
Знал ли «Элегию» главный ахматовский сирота? Весьма вероятно: он ведь говорил о том, что много читал Самойлова. Но даже если и нет – что с того? Стиль Бродского апробировал на письме Самойлов. Но Самойлов «поматросил и бросил», а Бродский поднял и пронес через всю жизнь. На открытый, классически чистый голос Д. С. и не могло лечь это сатурниански-темное, завораживающее пришептывание. Другое дело – рыжий юноша из Дома Мурузи. Война, блокадная зима, эвакуация. Детство, пришедшееся на послевоенные тесноту и бедность. Как он должен был писать?
Мы жили в городе цвета окаменевшей водки.
Электричество поступало издалека, с болот,
и квартира казалась по вечерам
перепачканной торфом и искусанной комарами.
Одежда была неуклюжей, что выдавало
близость Арктики. В том конце коридора
дребезжал телефон, с трудом оживая после
недавно кончившейся войны. <...>
(«Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...», 1994)
Точная деталь: одежда в тусклом электрическом свете кажется грязной, перепачканной. Суровый климат предопределяет не только «неуклюжую» одежду, он делает неуклюжими людей, вымораживая жесты, сковывая и как бы измельчая движения, укорачивая их амплитуду. И еще этот чудовищный послевоенный недостаток во всем. Всё – неуклюжее, вся жизнь – неоправданно, незаслуженно трудна. А где же солнце, дающее жизнь, вселяющее спокойствие и радость? Есть ли там солнце, в этом городе на болотах, или только полярные светы гуляют по темным проходным дворам?.. Как он должен был писать?
Отнюдь не вдохновение, а грусть
меня склоняет к описанью вазы. <...>
(«Неоконченный отрывок», 1966)
Кстати, ваза перешла к Бродскому по наследству. О ней уже писали – вот здесь:
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь. <...>
(О. Мандельштам, «Невыразимая печаль...», 1909)
И здесь:
<...> Мама.
Если станет жалко мне
вазы вашей муки,
сбитой каблуками облачного танца, –
кто же изласкает золотые руки,
вывеской заломленные у витрин Аванцо?.. <...>
(В. Маяковский, «Несколько слов о моей маме», 1913)
И немудрено: хрустальная ваза для цветов или фруктов была, наверное, в каждой русской семье, кроме тех, которые просто не могли ее себе позволить. Это как зеленая лампа, трюмо с черными пятнами отслоившейся по краям амальгамы в прихожей, зеркальный трельяж у мамы в комнате или скрипучие венские стулья на веранде. Запах пудры и старого дерева. Запах книг в библиотеке деда. Перегнувшись через перила шаткой лестницы, видеть, как мама уходит, стуча каблуками по кирпичной дорожке... Но о чем это я?.. Натурально, о каблуках:
<...> Замерзая, я вижу, как за моря
солнце садится и никого кругом.
То ли по льду каблук скользит, то ли
сама земля закругляется под каблуком. <...>
(«Север крошит металл, но щадит стекло...», 1975–76)
Вот еще совпадение (объект и процесс) с Маяковским, причем настолько точное, что вообразить его случайным невозможно:
<...> И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
как чулок девицы из варьете.
(Полярный исследователь», 1978)
У Маяковского:
<...> лысый фонарь сладострастно снимает
с улицы черный чулок.
(«Из улицы в улицу», 1913)
Только у последнего чувственнее и без любезного Бродскому гниения и распада.
Слова подвешены на ниточках в воздухе, как серебряные колокольчики. Они почти неизменны, но их каждый раз по-разному перебирает ветер.
«Треща хрящами», «хрустя под каблуком», заумное «слыша жжу цеце» – эта озвучка у Бродского идет от Маяковского, от футуризма. И вот эта концовка в «канцелярском» стиле вызывает в памяти рифмованные агитки Маяковского:
<...> А что насчет того, где выйдет приземлиться, –
земля везде тверда; рекомендую США.
(«Классический балет есть замок красоты...», 1976)
В стихах Бродского в большом (sic!) количестве встречаются составные и неравносложные рифмы, огромные возможности которых первым у нас с блеском продемонстрировал именно Маяковский. Именно Маяковский ввел неравносложную рифму в широкий обиход русской поэзии, прописал ее систему. Маяковский первым стал в массовом порядке привлекать иноязычные слова для конструирования новых, полных русских рифм, и этот прием вслед за ним очень активно использовал Бродский, как, впрочем, и многие другие поэты.
Но это не главное, чему у Маяковского учился будущий нобелевский лауреат. Он учился зрению. Тому особенному поэтическому зрению, при помощи которого, как сверхпрочной рукой-манипулятором, можно делать с реальностью что угодно. Влезать в какой угодно огонь, работать в любой самой агрессивной среде. До Маяковского в русской поэзии не было поэта с такими способностями к метафорической визуализации. Маяковский выворачивал наизнанку любой предмет, процесс, явление, да так, что была видна его живая, новая суть. Маяковский изображал реальность с той же безжалостной силой, с какой родившийся с ним в один год Хаим Сутин писал освежеванные туши быков. Это ошеломляло его современников, это ошеломляет до сих пор.
Не могу сказать, что Бродский превзошел своего учителя, но он был выдающимся учеником. И то, что за его до болезненности точной, фантастически изобретательной образностью маячит огромная тень Владим Владимыча, никак не умаляет заслуг нобелиата.
Мы все стоим на плечах великанов.
При этом Бродский может то, о чем даже не помышляет Маяковский. Посмотреть на себя отчужденно, со стороны. Эгоцентризм Маяковского настолько велик, что его границы, как границы Вселенной, различить невозможно даже теоретически. Лирический герой Бродского, напротив, очень четко сознает границы своей личности и полон решимости существовать частно, независимо, отдельно от окружающего мира. Это Нарцисс, который иронизирует над собственным отражением в воде, – постольку, поскольку оно тоже принадлежит остальному миру, а не Нарциссу. Лирический герой Маяковского разряжен в пух и прах, в павлиньи перья, но этот ярмарочный зазывала больше чем искренен, у него сердце расположено снаружи грудной клетки. Страшно за него, ну не выживет он на этой продувной площади, в окружении черни. Лирический герой Бродского носит соболью шубу мехом внутрь и бобровую митру. Он сноб, и он закрыт настолько, насколько это вообще возможно в поэзии.
Таким образом, заявления, периодически делаемые нашими первоклассными литературными eggheads, мол, Бродский пришел в русскую поэзию только со своими и невесть откуда взявшимися турусами, – совершенно безосновательны. Бродский вырос из русской поэзии и виден в перекрестье влияний других поэтов, как летящий по небу ночной бомбардировщик в лучах прожекторов.
Но вот как раз ахматовское воздействие представляется мне крайне незначительным. Хотя в их поэтических типажах есть нечто общее: высокомерие, отстраненность, холодность в лице лирического героя, полузакрытость век при слегка откинутой назад голове. При желании это можно назвать акмеистическим духом, интегральным для Ахматовой и Бродского.
Вот еще между делом: парадоксальное, запоминающееся «Как будто жизнь качнется вправо, / качнувшись влево...» из «Рождественского романса» отнюдь не на пустом месте возникло:
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки. <...>
(Анна Ахматова, «Песня последней встречи», 1911)
Очень женское путание правого и левого превращается у Бродского в гениальную прорисовку отвлеченного понятия. Это как бы два отдельных изображения в одном, на основе которых возникает стереоэффект. Эта стереометафора, если отвлечься от прототипа, уникальна для русской поэзии.
Не знаю, чего больше было в их отношениях: дружеского, материнско-сыновнего? Перипетии их мне неинтересны. Но вот стихи «На столетие Анны Ахматовой» (1989) заслуживают отдельного упоминания. Замечательные, ахматовского строя, написанные с огромным сочувствием:
Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос –
Бог сохраняет всё; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос. <...>
Бог сохраняет всё... это по-ахматовски великодушно. И совершенно не характерно для всегда скептически настроенного Бродского. И оттого, может быть, еще более убедительно.
Правда, не все поэтические кенотафы Бродского так удачны. В 1974 году умирает Георгий Константинович Жуков. И Бродский, который уже 2 года находится в эмиграции в Америке, пишет стихотворение «На смерть Жукова», тематически перекликающееся с державинским «Снигирем», которое тот написал, вернувшись с похорон Суворова, и очень близкое ему по размеру.
1-я строфа:
Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.
Бог с ними, с колоннами замерших внуков, хотя очевидно, что траурная процессия движется к, а затем от наблюдателя, но при чем здесь лошади круп? Лошади в похоронах Жукова участия не принимали. И можно было бы проигнорировать эту неточность – поэт и не должен быть фактически точен, когда бы не одно «но»: лошадь притянута для точной рифмы круп-труб-труп. Бродский счел за лучшее просто не связываться с маловалентной рифмой на -уп, облегчил себе задачу, skipped a few lines, как он говорил, и пошел дальше.
А дальше плачущие военные трубы – что это? Сам тембр звучания духовой меди не предполагает эпитета «плачущий». Это пафосные, пронзительно-высокие или низкие, но всегда энергичные звучности. Медь поет, а не плачет. Опускаем «в регалии убранный», положим, что «убранный» в его устаревшем значении – необходимая нота в общей эпической партитуре стихотворения. И вот последняя строчка: неуклюжее «в смерть уезжает» приторочено к «пламенный Жуков». Но почему пламенный? Он все же полководец, а не революционер. Скорее твердокаменный, с его послужным списком. А propos тело Жукова было кремировано – в этом смысле пламенный? Сказано с солдатской прямотой, по крайней мере.
2-я строфа:
Воин, пред коим многие пали
Стены, хоть меч был вражьих тупей,
Блеском маневра о Ганнибале
Напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
Как Велизарий или Помпей.
Так многие пали или стены? Конструкция двусмысленна по причине не очень уместного здесь анжамбемана. Спишем на авторскую вольность. Но во второй строчке: а) выпал слог; б) в стык составлены три односложных слова, и это очевидный технический промах. Впрочем, поэт – орудие языка. В данном случае – анестезированного языка. К Ганнибалу, Велизарию и Помпею претензий нет. Это были славные мужи. Да и сказано хорошо.
3-я строфа:
Сколько он пролил крови солдатской
В землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
Белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
Области с ними? «Я воевал».
Вопрос «сколько?» применительно к пролитой крови, исходящий от поэта, мягко говоря, неэтичен. И никаким гражданским пафосом или полемической заостренностью и проч. эта неуклюжая риторика оправдана быть не может.
И вот еще. Каким образом воины, погибшие в боях за Родину, а потом за освобождение Европы от фашизма, оказались в «адской области», я все же не смогу понять. И согласиться с этим не смогу никогда.
То есть, если исходить из формальной логики, зондер-команды, сжигавшие людей в печах, по Бродскому должны пребывать в раю. Странный душок исходит от этой строфы. Либо будущий лауреат опять не справился с языком, либо... я даже не хочу предполагать, каких пауков он увидел в свидригайловской бане. Далее.
4-я строфа:
К правому делу Жуков десницы
Больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
Хватит для тех, что в пехотном строю
Смело входили в чужие столицы,
Но возвращались в страхе в свою.
Так все же у истории – русской страницы, или у истории русской – страницы? К тридцати четырём годам пора бы научиться обходить синтаксические грабли. Нет, я не брюзжу. Это элементарные технические требования.
Насчет возвращавшихся в страхе фронтовиков – очень сомнительно. Люди, пришедшие с войны, как правило, ничего не боятся. Не потому что они прирожденные герои. Просто у них ампутирован страх. Но, опять же, для красного словца, конструируя антитезу: смело – в страхе. К чему все это, автор? Каков лирический бонус, как сказал бы наш современник Саша Либуркин? Да ни к чему. Надо же говорить о чем-то, подняв голос.
5-я строфа, заключительная:
Маршал! поглотит алчная Лета
Эти слова и твои прахоря.
Все же прими их – жалкая лепта
Родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
Громко свисти на манер снегиря.
(«На смерть Жукова», 1974)
Таков Жуков Бродского: и в области адской, и кровь проливал, и Родину спас. И сапоги его проглотила алчная (?) Лета. Или все же прими их – кого? что? – слова или прахоря? Прахоря ведь для рифмы только, ей-богу. «И сия пучина в тот же миг поглотила ея...» Количество невынужденных ошибок дает все основания назвать эту многословную эпитафию отпиской от темы.
Что еще раз доказывает: Бродский – поэт всецело лирический, поэт впечатления, настроения, воспоминания. Он не умеет «рассказывать рассказы», строить логически развивающийся и вместе с тем увлекательный сюжет. Эпос не его стихия, ему никогда не хватало ни воли к описанию, ни эмоциональной выносливости, ни таланта повествователя. Даже лучшее, по признанию многих, из его «больших стихотворений» – «Осенний крик ястреба» (1975) – представляется мне неоправданно затянутым и неимоверно пустым. Мотив экзистенциального одиночества, выраженнный через крик, – это в XX веке картина Мунка, картина-символ. Совершенно не нужно городить огород из хищной птицы, ее топографической анатомии, факультативного в данном случае американского ландшафта, эриний, неба, мышей, берез, вязов и шпилей, чтобы заявить: «Мои ярость, и сила, и страх велики. Я кричу, и весь мир содрогается от моего крика!» Что есть иллюзия, свойственная художнику. Миру – наплевать.
Не стоит бегать на длинные, будучи прирожденным спринтером. Результат в любом случае будет невыдающимся.
Бродский сентиментален, хотя тщательно скрывает это. Он даже слезу описывает эмфемистически: «И ежели я ночью / отыскивал звезду на потолке, / она, согласно правилам сгоранья, / сбегала на подушку по щеке быстрей, чем я загадывал желанье» («В озерном краю», 1972). Бережно, как скупой рыцарь золотые монеты, он собирал свои слезы и прятал их под замок. Острая жалость к себе – единственное богатство поэта. Это неразменный рубль, на который можно купить любое из самых горьких и стыдных воспоминаний. Впрочем, есть еще и презрение к себе и непомерная гордыня, – как подсчитать ущерб от них? Но всех тайн я не открою. Дудки.
Для меня до сих пор остается загадкой, откуда в Бродском это ощущение Империи и своей причастности к ней. Ведь типичное для русской антиэлиты в XX веке отношение к имперскому мифу – это его неприятие. Суть такого отношения сформулировал Мандельштам:
С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья,
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучал себя по чужому подобью. <...>
(«С миром державным я был лишь ребячески связан...», 1931)
Еще более недвусмысленна наколка, которую делали себе не только уголовники, но и «политические»: «Раб СССР». Что разглядел поэт за этим триумфом партийной воли – петровские, екатерининские черты, легендарную Киевскую Русь? Рим? Но у римских граждан были неотъемлемые и реализуемые права, а не только обязанности. А у нас, русских? Стоит ли говорить об этом...
Нельзя было в то тоталитарное время считать себя «имперским» поэтом. Ни в каком смысле, даже самом переносном. Это наивно до глупости. Это унизительно. Маргинальный, неудобный стихоплет, которого власть после неудачной в итоге попытки нейтрализовать просто вышвырнула за рубеж. «Имперские» поэты Симонов и Сурков жили на Тверской, в доме № 19. А Бродскому даже не дали приехать на похороны матери (1983), а год спустя – и отца.
Ссыльная перхоть, по счастливой случайности не ставшая лагерной пылью.
Я родился и вырос на Волге-реке,
на широких приволжских просторах,
то ли мать с детских лет невзлюбила меня,
то ль судьба мне такая досталась. <...>
Это первый куплет старой зековской песни, довольно красивой. Где он ее услышал? В тюрьме, на пересылке? Возможно. Или прочитал у какого-нибудь сидельца в песенной тетрадке? Неважно. Он запомнил. И откликнулся:
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда – все рифмы, отсюда тот блеклый голос,
вьющийся между ними, как мокрый волос,
если вьется вообще. Облокотясь на локоть,
раковина ушная в них различит не рокот,
но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник,
кипящий на керосинке, максимум – крики чаек.
Изобретательно и тонко рисует Бродский пространство при помощи звука. Вот источники близко: хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник; а вот дальше, далеко: крики чаек. Он намечает протяженность. И наполняет ее воздухом, и небом, и горизонтом моря.
В этих плоских краях то и хранит от фальши
сердце, что скрыться негде и видно дальше.
Это только для звука пространство всегда помеха:
глаз не посетует на недостаток эха.
(«Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...», 1975)
Конечно, плоских. Россия по преимуществу равнинная страна. Мы медленно скользим по бесконечной, в необозримое никуда направленной оси абсцисс. «То и хранит от фальши», что нельзя избавиться от ощущения ничтожности перед этим Простором, огромным, необозримым, от которого захватывает дух. Мы живем главным образом не в окружении городского пейзажа, не в окружении ландшафта, но в окружении воздуха. Наши песни унылы, потому что нельзя объять необъятное. Но их так много и они так красивы потому, что необъятное звучит в нас. Нет, пространство не помеха для звука. Оно рождает звук.
Вообще экспликация, разворачивание «я» лирического героя через историю несчастливой жизни, злосчастной судьбы – весьма характерная черта «блатной» песни. По существу Бродский использует тот же прием, но на другом речевом уровне:
Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
<...> Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
<...> Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
(«Я входил вместо дикого зверя в клетку...», 1980)
И этот «вороненый зрачок» онтологически связан и с мандельштамовскими «черникой в лесу» и «вырванным с корнем звонком», и с «окурочком» Юза Алешковского. Почти весь русский XX век – это «шевелить кандалами». Или «жрать хлеб изгнанья». Очень простые слова становятся эмблемой самого трагического периода в русской истории. И в то же время это отсылка к дантовскому «Горек чужой хлеб и круты чужие лестницы».
В известном смысле Бродский принимает эстафету от Самойлова с его знаменитым «Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал...» (1960); он тоже полон решимости осмыслить эту рубежную дату – 40 лет. Но интонация Самойлова проще, примирительнее, отстраненнее:
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
Я любил, размышлял, воевал.
Кое-где побывал, кое-что повидал,
Иногда и счастливым бывал. <...>
Сорок лет. Где-то будет последний привал?
Где прервется моя колея?
Сорок лет. Жизнь пошла за второй перевал.
И не допита чаша сия.
Самойлов полагает себя в будущее, Бродский подводит итоги. Оказалась длинной? Для сорокалетнего человека сказать так – в известном смысле кокетство. Но не для поэта. И многие этот рубеж не перешагнули.
Живи быстро, целуй медленно, умирай легко. До старости доживать – необязательно.
Зрелые стихи Бродского напоминают «метафизические» картины Джорджо де Кирико. Пустынные площади, здания, колонны, статуи, яркий свет и резкие тени, башни, безликие силуэты, плоские перспективы, меланхолия, мистерия. Только нет живых людей. И вообще – ничего живого. Тщетная попытка преодолеть собственную тленность в холодной материи камня, льда, воздуха. Бегство в снежную ночь. Но как? Сознание нельзя имплантировать в кристаллическую решетку. Его несущий субстрат – живые белковые тела, которые неминуемо умрут и распадутся. И что тогда?
<...> Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст.
И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
«Падаль!» выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.
(«Только пепел знает, что значит сгореть дотла...», 1986)
Но противоречие в том, что падаль не тождественна сознающему субъекту, живое не равно мертвому, и для этого мертвого невозможно никакого рода восприятие, в том числе и собственной свободы. И этот восторг по поводу свободы падали – очень живое человеческое чувство.
Вот еще «апофеоз частиц», как будто снятый с языка философа или богослова. Не шестовский ли «Апофеоз беспочвенности» инспирировал Бродского? Зрительной проверки метафора не выдерживает – она слишком аморфна для того, чтобы ее увидеть. Какие-то едва уловимые искры в черном электромагнитном поле. Внешне красиво и внушительно, но внутри – пусто. Это слон на площади Бастилии, в котором жил Гаврош.
Бродский, судя по его манере обращения со словом, в самом деле считал поэта «орудием языка», оправдывая таким образом языковой инфантилизм, отчасти снимая с пишущего ответственность за написанное. На вполне резонный вопрос – а почему у археолога пасть, а не рот? – есть только один простой, подсказываемый опытом стихосложения ответ. «Зарытая в землю страсть» была придумана раньше и определила пару «страсть-пасть». Оставить археологу стилистически нейтральный «рот» значило бы направить стихотворение по другому пути. Но образ строчки уже был найден, и Бродский оставляет позади дребезжащую ноту. Впрочем, на этот раз он спешит в никуда. Концовка рассыпается. Но... Первые четыре строки этого стихотворения совершенно чудесны:
Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не все уносимо ветром, не все метла,
широко забирая по двору, подберет. <...>
И ради этих слов большому поэту можно простить все ошибки последующей «дописи». Какая разница, в самом деле, – апофеоз, апофегей, да хоть кукиш с маслом. Как будто к водопаду подошел: такой гул стоит во всем теле. Только пепел знает...
Entre nous, так падаль все же или пустота, что «вероятнее и хуже Ада» («Похороны Бобо», 1972), в которую, несмотря ни на что, лирический герой «верит»? Падаль, на мой вкус, много хуже. Пустота гигиеничнее. В свое время идея сартровской «тошноты» поразила меня своей психологической достоверностью. Совершенно понятно, что чувствует Рокантен, видя хаотическое изобилие жизни вокруг себя. Это есть в личном опыте, это типично для личного опыта. Но ЧТО имеет в виду лирический герой Бродского, говоря о пустоте, т. е. о том, чего нет? Бродский, скорее всего, понимает под пустотой пространство, в котором нет человека, но ведь это не одно и то же: пустота и пространство. Кстати, почему это обесчеловеченное пространство хуже ада? А вдруг там птички? Или суслики? Опять для рифмы? Пустота, взятая как философская категория, слишком сложна для поэзии, лучше ее избегать и не умничать, чтобы не выглядеть глупо. Поэзия должна быть глуповата. Но не слишком.
На кого и на что только не примеряли исследователи Бродского эту Бобо: ну право же, какая интересанка, какой простор для гадателей по щиколоткам. Ухватиться, в общем, есть за что.
«Где у тебя бо-бо?» – спрашивает мать у плачущего ребенка. Бо-бо – это место, где болит, и время – когда, это детство, отрочество, юность, шире – прошлое, с которым ты прощаешься, не в силах удержать его, как нельзя спасти бабочку-однодневку от неминуемой смерти. «Мы не приколем бабочку иглой...» Прошлое становится ничем, и мы, находящиеся в позиции наблюдателей по отношению к собственной жизни, убеждаемся в этом ежедневно.
<...> Ты всем была. Но, потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем – точнее, сгустком пустоты.
Что тоже, как подумаешь, немало. <...>
Обернись, солнце садится, и тени длинны, и твоя падает туда, за черту, за амальгаму, в пережитое. «Сгусток пустоты» – это тень отсутствия человека. «Ты всем была...» Удивительно точно выставлены слова, и нет ни одного лишнего.
Бродский, пожалуй, единственный поэт, излюбленные строчки которого как будто поставлены во мне на реверс. Для того чтобы воспроизвести во внутренней речи Пушкина, Тютчева, Блока, нужно некоторое усилие, пусть минимальная, но концентрация, а эти звучат сами. Почему? Возможно, потому, что мелодии Бродского не разрывают тишину пронзительной нотой, но скорее эту тишину создают.
Традиционная классическая поэзия обладает ярким, блестящим тембром, подобно звукам трубы, самым высоким среди духовых. Такой звук нельзя вместить окончательно, присвоить, он всё равно вырвется наружу, он слишком силен, слишком свободен, слишком активен. Суть широкого жеста Бродского в том, что он увел русскую поэзию, условно говоря, с верха клавиатуры – к низу. Он открыл новое, приглушенное, интимное, «частное звучание». Он приблизился к читателю настолько, что стало возможным говорить с ним шепотом. «Перешел на шепот...» Во многом поэтому, хотя есть и другие причины, влияние Бродского на современное ему и последующие поколения поэтов так велико. Иммунная система стихопишущих не маркирует его стихи как «чужие», напротив, она воспринимает их как свои.
Гений ли Бродский? В своих лучших стихах он близок к гениальности. Великий ли он поэт? Боюсь, что нет.
Великая поэзия – это победа над косностью, твердостью и тяжестью языка, перевод его в состояние сверхтекучей плазмы. Это превращение языкового субстрата в чистую энергию. Это свободный полет над бездной, полет без страха падения, без срывов в эмоциональный штопор – так долго, как это угодно твоей душе. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «По вечерам над ресторанами...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» Обычные слова, расставленные в обычном порядке. Обладающие огромной созидательной силой. Возбуждающие ревность в олимпийских богах. Великая поэзия – это просто. Надо только услышать одну великую строчку. И за нее, как за ниточку, вытащить все остальные. Да, но только у Бродского не было такой ниточки. Той вдохновенной легкости, с которой всё начинается.
Бродский пытался летать при помощи махолета собственной конструкции. Великие летают без приспособлений, просто раскинув руки. Точно сказала Цветаева: «В поте – пишущий, в поте – пашущий! / Нам знакомо иное рвение: / Легкий огнь, над кудрями пляшущий, – / Дуновение вдохновения!» («В черном небе слова начертаны...», 1918).
В конечном итоге мы любим великих поэтов даже не за смысл и эмоциональную наполненность сказанного, но за обретение бесконечной свободы в языке, которое всякий раз происходит на наших глазах. При чтении Бродского этого не случается. Язык как будто спеленал его.
Вот он начинает – красиво, сильно, внятно:
Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, – от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса –
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок…
Но уже четвертая строка через анжамбеман уводит поэта куда-то в сторону социальной критики, в эклектизм «эзоповой фени», анахроничность «белых головок» (водочные бутылки, продававшиеся в СССР в 40–50 гг., – кто теперь об этом помнит?), к генитальной топонимике «злых корольков и визгливых сиповок». Это изобретательно, право, но это изобретательное топтание на месте.
…имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей…
Анафора, просторечное «кондукторша», ирония и по поводу А. С. в том числе, характеристический ряд существительных, переходящий в перистиль из кирзовых сапог, повторный намек на сексуальную активность адресата – поэт как будто бы набирает в грудь воздуха, чтобы сказать главное:
…да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Аграмматизм конструкции «местных труб проходимцу и дыма» вызывает недоумение. В данном случае искажение языковых отношений может быть объяснено лишь стремлением уложиться в точную рифму. Здесь есть возможность сохранить такую рифму, переведя существительное «дым» в творительный падеж и заменив «понимавшему жизнь» каким-нибудь другим причастным оборотом, используя ассоциацию «дым – пчела», к примеру. Впрочем, небрежность Бродского с лихвой окупается замечательным финалом стихотворения:
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.
(«На смерть друга», 1973)
Вот эта конкретизация метафоры через пальто, застежки, драхму, угрюмого Харона, дудку, ее протяжный звук превосходна. Трудно нарисовать картину расставания и последующих ритуалов (переправа через Лету – плата за переправу – прощальный поклон) экспрессивнее, чем это сделал Бродский при такой очевидной экономии изобразительных средств. Замечательно точно найдена интонация последних двух строк: глубокая личная печаль, переданная через «безличность» эпитетов «безымянный», «с берегов неизвестно каких». И этот ритмический обрыв в конце: «Да тебе и неважно». Шторка захлопывается, экран гаснет. Голос умолкает.
Не провали Бродский это стихотворение в начале... О, это мельтешение метафор, мошкара вокруг лампы, пустые хлопоты. Иногда нужно выключать свои семь пядей во лбу. Звезды горят ярче любого светильника разума.
Даже в лучших стихах Бродский не может освободиться от «величия замысла». Как будто всегда перед ним – камень сверхзадачи, который он, как Сизиф, вкатывает в гору. Странное стремление вместить в слова больше, чем они весят, поменять их атомную массу. Иероглифы, ни словечка в простоте:
Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но…
Мартобря... Привет Гоголю и его «Запискам сумасшедшего». Оправданная составная рифма «неважно – не ваш, но». Архаически-приподнятый союз «ибо». «Ибо ирония судьбы, ниспославшая нам этот своего рода сюрприз...» Но это уже из другой оперы.
…и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих…
Ковбои, на которых держится континент, это замечательно, право. Однако стремление к точной рифме оборачивается рассогласованием по числу. «Ангелов и самого» по крайней мере трое, но никак не двое. Несколько режет слух фамильярное «самого». «Сам» – это гетероним начальника, но уж никак не Бога.
…поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне –
как не сказано ниже по крайней мере –
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.
(«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...», 1976)
Попробуйте промычать «ты». С те же успехом можно попытаться просвистеть «мы». Но – неважно. Бродский совершенно справедливо игнорирует мелочи, неуклонно приближаясь к фокусу оптической системы стихотворения – двум последним «ударным» строчкам: «В темноте всем телом твои черты, / как безумное зеркало повторяя». Нелишним будет заметить, что стихотворение из 16-ти строк представляет собой одно большое, из трех равноправных частей скованное предложение. Такой трехзвенный боевой цеп, соединенный через точки с запятой. И что? А ничего, с гуся вода. Замечательные, превосходные стихи, подлинная лирика. «Я любил тебя больше ангелов и самого...» Неправильно, неуклюже, в лоб. Да! Вот только запоминается на всю жизнь.
Вообще этот принцип безостановочного (без синтаксических и ритмических пауз или сдвигов) разворачивания речевых конструкций в сочетании с монотонностью интонации является для поэзии Бродского стилеобразующим. Основа завораживающего действия его стихов вот здесь, в синтезе формального приема и повторяющейся ноты. Технически воспроизвести это довольно просто.
Вот еще одна причина огромного количества эпигонов Бродского. Наш Ясон засеял поле зубами дракона. И на Бродского, как бесчисленное воинство на греческого героя, наступают его последователи, вольные и невольные. Разумеется, поэт в этом не виноват. Но позволю себе заметить, что первым подражателем Бродского... стал он сам.
Я не знаю, что произошло с ним в последние годы, когда он начал повторяться. Склонен предполагать, что это обусловлено причинами, далекими от поэзии. Боюсь, что многое уже не зависело от самого Бродского. Возможно, ему надо было замолчать, занавесить зеркало пледом, чтобы избежать бесчисленных отражений морщин и пигментных пятен. Но легко говорить... Каждый раз надеешься, что напишешь нечто, превосходящее всё, что сделал раньше, поймаешь жар-птицу за хвост. А от самоповтора не застрахован никто. И никакая гениальность ничего не гарантирует. Нет ничего застывшего, раз навсегда определенного: дар может навсегда выскользнуть из рук обладателя, как та самая хрустальная ваза с синей искрой, которую я все-таки смахнул с пианино в своем солнечном детстве. Только брейгелевская сорока, этот крылатый часовой с неподвижными, как пуговицы, глазами, может быть совершенно в себе уверена: ведь она слишком бездушна для того, чтобы соблазниться чем-либо. Вот уже пятьсот лет ей достаточно виселицы, на которой она сидит. Но человеку хочется летать. Даже падая – лететь.
В последнее время заговорили о неком «парализующем» и даже «катастрофическом» влиянии Бродского на русскую поэзию, о том, что это влияние мешает ее развитию. Но дело в том, что автор, годный лишь на то, чтобы стать подражателем или даже «талантливым последователем», просто по факту несуществен для поэзии. В высшей лиге играют только большие и самостоятельные. И какая разница, кто сорвал флердоранж невинности с того или иного стихотворца: Бродский, Маяковский, Цветаева или еще кто-нибудь? И кого это будет занимать лет через пятьдесят, кроме нескольких специалистов? Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую. А потом, не один Бродский влияет. Некоторые до сих пор «под Пушкина» пишут.
Бродский широко издается у нас на протяжении двух десятков лет. Этого вполне достаточно для подведения предварительных итогов. За означенный период не появилось ни одного поэта, который бы мог серийно писать стихи в «поэтике низкой ноты», равные по силе тем, что создал Бродский на пике своего таланта. От всех его «учеников» при внимательном отборе и пяти стихотворений не наберешь. Каждый крупный мастер неповторим, это прописная истина. Можно вычленить приемы, скопировать интонацию. Но нельзя стать вторым Бродским.
Крупнейший после Бродского поэт – Борис Рыжий – продолжал традиции классической русской поэзии.
Возможно, Бродский так и останется стоять один на своей просеке, которую прорубил в стороне от прежней дороги. Возможно, кто-нибудь после него и превратит эту просеку в новое шоссе. Правда, я даже теоретически не представляю, как это можно сделать. И куда там двигаться дальше. Дальше по курсу – инфразвук. По крайней мере до сих пор попытки развить его поэтику выглядят беспомощно. А порой – клинически беспомощно.
Поживем – увидим. В любом случае сама жизнь и великий, идеально подходящий для поэзии язык предоставляют любому пишущему на русском самые неограниченные возможности. И это внушает надежды, несмотря ни на что.
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZ...
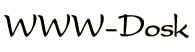
 Главная
Главная

 Справка
Справка

 Поиск
Поиск

 Вход
Вход





 Страниц: 1
Страниц: 1