Кир БулычевОсечка‑67повесть‑сказка
От автора
Осенью 1967 года нашу страну охватило остервенение от близкого пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. Необразованному наблюдателю могло показаться, что пятидесятилетие – высочайшая вершина в нашей истории, после которой неизбежно произойдет обвал, потому что долго продержаться на таком пафосе невозможно. Однако опытные наблюдатели, вконец развращенные секретными докладами Хрущева, к всеобщему восторгу относились скептически, не скрывая враждебной усмешки.
Будучи опытным наблюдателем, я видел идиотизм действа, но всю осень не мог ухватить ниточку, за которую, потянув, можно бы вывернуть праздник партии наизнанку. На дни кумачовых безумств мне удалось сбежать по приглашению друзей в Болгарию, но и там, разумеется, торжества меня не оставляли. Так как Болгарии не повезло и ее народ в семнадцатом году не смог взять штурмом Зимнего дворца, решено было восполнить недостачу воспоминаний современными действиями. Поэтому во время торжественного шествия демонстрантов перед мавзолеем Димитрова 7 ноября 1967 года была предпринята попытка инсценировки штурма цитадели Временного правительства. По площади нестройными рядами бежали вооруженные учебными винтовками матросики и красногвардейцы. Перед ними в панике отступали юнкера в форме Болгарской народной армии.
А вот если бы… если бы…
Но решения, цельного образа еще не было.
Возникло оно через несколько дней, когда я, возвратившись домой, просматривал скучные, барабанные праздничные газеты и в одной из них натолкнулся на сообщение о том, что в шотландском городе, названия которого не запомнил, студентами и историками местного университета к удовольствию горожан революция 1917 года была воспроизведена в лицах. Небольшой местный замок был временно переоборудован в Зимний дворец, и переодетые соответствующим образом молодые люди взяли его штурмом.
Конечно же! Так следовало поступить и у нас! Как жаль, что великие мысли приходят слишком поздно.
А тем временем я уже воображал, как все у нас разделятся на красных и белых и под руководством горкома, который и проявит такую инициативу, начнут брать ленинградский телеграф и почтамт, стрелять из пушки крейсера «Аврора» и заседать в Смольном. А тем временем у Зимнего соберутся его защитники… и защитницы? А кто будет изображать защитниц? Пожалуй, будучи секретарем горкома партии я бы доверил эту роль комсомолкам, молодым сотрудницам и экскурсоводам Эрмитажа. Какое получится зрелище!
И, сказав так, я сразу усомнился в зрелище.
Ведь повторный образцово‑показательный штурм Зимнего будет проходить в стране победившего идиотизма. И что из этого выйдет?
Чтобы выяснить это, я сел за стол и в начале 1968 года за неделю написал свой вариант революционных событий и неожиданных последствий этих событий.
Написал и с сожалением понял, что, за исключением узкого круга верных друзей, никому эту повесть‑сказку показывать нельзя. Могут правильно понять.
Друзья прочли. И на этом литературная жизнь повести завершилась.
Повесть залегла в нижнем ящике письменного стола и, постепенно обзаводясь такими же ссыльными подругами, продремала там два года. Потом случилось так, что я ждал обыска совсем по иному делу, вспомнил о собственном самиздате, извлек рукопись из стола и выбросил. То, что сегодня даже коммунистам кажется совершенно невинной фрондой, тогда могло быть сочтено идеологическим и даже уголовным преступлением. Ведь даже Брежнев с Андроповым были еще относительно молоды.
Несколько последующих лет я пребывал в убеждении, что этой повести, как и других ей подобных, не существует. И вдруг в одном дружественном доме обнаружился ее экземпляр. Случилось это уже недавно, когда «стало можно». И я, преисполненный запоздавшей отвагой, решил повесть опубликовать. Хотя, конечно, ее следовало бы опубликовать весной 1968 года и стать Гаврошем.
Ничего я не стал в повести менять – она теперь как бы археологический памятник, ценность которого, как ценность пыльного черепка, нынешнему молодому читателю непонятна. Был у меня соблазн повеселиться, прописав этот сюжет заново, но соблазн я преодолел.
Итак, вот он, взгляд из 1968 года.
С запозданием на четверть века начинается еще один штурм Зимнего дворца. Видно, революция у нас все же перманентная…
Пролог
«В ряду наиболее знаменательных событий юбилейного года – пятидесятилетия Великого Октября – важное место занимает решение ЦК Компартии и Советского правительства о проведении во время торжеств в Ленинграде штурма Зимнего дворца.
К участию в этом крупнейшем юбилейном мероприятии привлечены многочисленные представители общественности, а также целые коллективы ленинградских заводов, фабрик и учреждений. Воспроизведение в реальном масштабе славных событий октября 1917 года привлекло пристальное внимание зарубежной прессы и мировой общественности и должно вновь со всей убедительностью показать преимущества социалистического строя.
Несколько недель, предшествовавших мероприятию, славный город Революции живет в ожидании Штурма. Текстильные фабрики готовят комплекты одежды для участников событий, художники восстанавливают облик Петрограда октябрьских дней, работники кино и телевидения монтируют в ключевых пунктах восстания аппаратуру.
Восстание, возвещенное легендарным залпом «Авроры», должно быть проведено в течение 7‑го ноября 1967 года и завершится по плану открытием съезда Советов в Смольном…»
Правда. 16.10.1967
1
Антипенко развернул львиный фас в сторону Зоси из отдела фарфора и спросил, кто поедет получать шинели. Зося спросила, какого цвета шинели. Этого Антипенко не знал.
Под окном стоял автобус с финскими туристами. На сиденьях дремали уморившиеся бабушки.
– Наверное, черные выделят, – сказал долговязый Боря Колобок. – С черепом и костями.
– Не говори глупостей, – обиделась Зося. – Тебе хорошо, у тебя юнкера, а на нашем участке еще баррикаду не достроили.
– Я звонил им, – сказал Антипенко. – У них прорыв. Студентов мобилизуют.
Обшитая черной клеенкой дверь чуть приоткрылась, и Раиса Семеновна заполнила проем полной грудью.
– Шинели готовы. Пора ехать на склад.
– Ну, с богом, – сказал Зосе Антипенко. – Распоряжайся. – И крикнул вдогонку: – Чтобы не подрезать и не ушивать. За шинели я головой отвечаю. Историческая правда прежде всего.
Зося кивнула, не оборачиваясь. Боря Колобок спросил Антипенку:
– А оружие когда получать будем?
– С оружием трудности. Мне на складе уже выписали. И виза была, но тут звонит Соколов из обкома, он оружием сейчас ведает, и говорит: эту партию на Ближний Восток отправили. Неувязка вышла. А пушки завтра из Артиллерийского музея подвезут. Три штуки. Только что снаряд на столе лежал. Не видел, куда я его задевал?
Пока Антипенко растерянно шарил по столу веснушчатыми руками, Боря налег на стол верхней половиной своего ломкого длинного тела и громко прошептал:
– Милиция на площади будет?
– Это еще зачем?
– А вдруг в самом деле?
– Чего?
– Вдруг они ворвутся в самом деле? У нас же ценностей мировой культуры на миллиарды новых рублей.
– Ты, Колобок, это кончай. В каждой колонне идут члены бюро райкомов. Так что без паники. Понял?
– Понял, – сказал Колобок неубежденно.
– А милиция в других районах пригодится. Народ будет праздновать, а он требует контроля.
– Может быть. Ну, я пошел.
– Только совсем не уходи. Может, понадобишься. Сам понимаешь, положение напряженное. В любую минуту могут поступить новые распоряжения из инстанций.
– Ладно.
Колобок поправил модные очки и, широко расставляя худые ноги, направился к своему отделу.
В гобеленной галерее Колобок встретил красивого Извицкого. Извицкий вел экскурсию. Колобок протолкнулся к нему сквозь строй пенсионерок.
– Долго тебе еще? – спросил он, наклонившись к уху экскурсовода.
– Сейчас кончу. А что?
– Беги сразу в отдел. Важное дело.
Симеонова Колобок разыскал в буфете. Симеонов пил кефир. Колобок сказал Симеонову о встрече в отделе и заодно попросил предупредить античников.
Через десять минут в комнате отдела Дальнего Востока собрались десять сотрудников Эрмитажа. Колобок сел на исцарапанный поколениями кандидатов и докторов письменный стол, отодвинул в сторону ножны от самурайского меча и сказал:
– Товарищи, я собрал вас, вы сами догадываетесь, почему. Сейчас я был у Антипенки, и старый хрен дал понять, что милиции на площади не будет.
Колобок блеснул очками, и взгляд его приобрел суворовскую пронзительность. Остальные молчали.
– Не поняли? Объясню. Через два дня – штурм Зимнего. Известно всем? Штурмовать выделены Кировский завод, сводная колонна обкома комсомола, группа персональных пенсионеров и другие организации. Если не будет милиции, штурмующие могут увлечься. И ворваться в эти стены…
Мертвая тишина воцарилась в комнате отдела Дальнего Востока.
– Баррикады наши сделаны на живую нитку. Только для кинооператоров. Пушки – без замков, из Артиллерийского музея. Наши винтовки ушли на Ближний Восток. Чем мы задержим…
– Постой, Борька, – сказал тут Симеонов. – Ты что же, хочешь сказать, что штурмующих в Зимний пускать нельзя?
– Пускать придется, но не дальше вестибюля. Я все понимаю – пятьдесят лет назад штурм был настоящий и тогда Зимний пал. Но кто‑нибудь подсчитывал действительный ущерб в семнадцатом году? Никто. Но тогда юнкера хоть как‑никак, а дворец защищали. Сейчас мы защитить его не сможем. И кто гарантирует нам стопроцентную сохранность памятников культуры и искусства? Ты, Симеонов?
– Нет, зачем так сразу. Штурмующие должны понимать. Там представители партийных органов пойдут, как по льду Кронштадта.
– А о массовых психозах ты слышал?
– Это где массовые психозы? – грозно сверкнул черными очами Извицкий. – Ты с каких позиций выступаешь? Люди на святое дело собрались!
Кто‑то хихикнул. Колобок шлепнул ладонью по столу:
– Я выступаю с наших позиций! С позиций сохранности народного достояния!
– Ребята, вы, по‑моему, соревнуетесь в лицемерии, – заметил Симеонов.
Колобок почти не смутился:
– Я выступаю с позиций сотрудника и, если хочешь, патриота Эрмитажа. Мы обязаны не допустить повторения ошибок семнадцатого года. Мы обязаны это сделать как члены партии, комсомола и просто профсоюза.
– Еще побьют чего доброго, – неудачно пошутил кто‑то из древних греков.
– И будут правы, – добавил Симеонов. – Если людям разрешают раз в полсотни лет взять штурмом Зимний дворец, то они имеют полное право немного пошалить.
– И все‑таки в райком надо бы сходить, – тоскливо произнес Извицкий.
Колобок даже удивился. Он не ожидал поддержки с той стороны.
– Сходить можно, – сказал кто‑то от двери.
– И заодно вооружиться, – вставил Колобок, который ковал железо, пока горячо. – Мы должны быть готовы ко всяким случайностям.
Колобок соскочил со стола и широко развел руками:
– Это же все наше, народное. Мы – дети рабочих и служащих и сегодня, может, для некоторых впервые в жизни наступило серьезное испытание. Я не хочу возражать против решения ЦК повторить в день пятидесятилетия штурм Зимнего. Это, ребята, мудрое решение. Но без милиции может произойти взрыв. Я сам слышал такие разговорчики на улице…
– Какие?
– Неважно какие. Считай, на уровне анекдота. Случайности – это тоже необходимость.
– Кто в райком пойдет? Сам?
– Сам схожу. А ты, Извицкий, побеседуй с девчатами.
– С какими?
– С нашими. Которых в женский батальон смерти мобилизовали. Там у них Зося – комбат. Она сейчас за шинелями поехала на театральный склад.
На том и разошлись. Только Симеонов в дверях остановил Колобка и сказал серьезно:
– Ты в райкоме не очень. А то еще выговор схлопочешь за паникерство.
– Дурак я, что ли? Я про милицию намекну – сами должны понять. Если что, им же отвечать придется.
2
Уже несколько недель райкомом владело обалделое предпраздничное настроение, настолько затянувшееся и нереальное, что оно стало нормой и возвращение к обычной жизни казалось почти невероятным. Оно почему‑то выражалось почти одинаково у всех сотрудников райкома. «Вот все кончится, – говорили они в узком кругу, – уйду в отпуск. Поселюсь на двадцать четыре дня в Сочи и буду играть в преферанс».
Но пока было не до преферанса.
Колобок сначала не разглядел милиционера у лестницы. Милиционер полностью скрывался за горой жестяных и фанерных вывесок и реклам, которым, казалось бы, не должно быть места в райкоме.
– Вы к кому? – раздался голос из‑за оранжевого щита «Коньякъ Шустова».
– К Грушеву, – ответил Колобок и достал партбилет.
– Что‑то я его сегодня не видал, – сказал старшина, отодвигая к стене вывеску «Трактиръ». – Вот привезли сейчас, а развешивать некому. Эта, – он показал на «трактиръ», – над нашей дверью повиснет. Я уж возражал.
– Несолидно, – согласился Колобок. – Неужели другой не нашли?
– Главный архитектор удружил, – сказал старшина. – По плану старому проверял. Оказалось, соответствует исторической правде.
По лестнице спускались два инструктора промышленного отдела, сгибаясь под тяжестью позолоченного двуглавого орла. Инструкторы развернули его, как рояль, и неумело принялись просовывать в дверь. Старшина забыл о Колобке и с криком: « Левей заноси, так его!» бросился на помощь инструкторам.
Колобок поднялся на второй этаж и инстинктивно прижался к стене. Навстречу медленно шел крупный мужчина с эполетами, украшенными черными орлами. При виде отпрянувшего Колобка мужчина вздохнул, оттянул в разные стороны рыжие бакенбарды, и Колобок узнал третьего секретаря.
– Осваиваю, – сказал секретарь. – Не узнал?
– Нет. У вас это убедительно получается. Это чья форма?
– Меня еще не прикрепили. Но прохожу по флотской части. Наверное, морской кадетский корпус дадут. Ты к Грушеву? Может не принять. Занят.
– Я попробую.
Дверь в кабинет первого секретаря была распахнута, и из‑за нее, клубясь по приемной, вырывался табачный дым. Колобок вошел в кабинет и с минуту приглядывался, стараясь разобрать в голубом мареве, где же товарищ Грушев.
Наконец он разглядел зелень секретарской скатерти и поплыл к столу. В тумане над столом покачивалась крепкая фигура секретаря. Секретарь был в тельняшке и бескозырке, на которой золотыми буквами было написано «Аврора». Повезло, подумал Колобок. В самом центре событий будет находиться. Два пожилых джентльмена с острыми, неумело наклеенными бородками и в одинаковых черных жилетах ритмично взмахивали руками, пытаясь заставить матроса подписать трудно различимые в дыму бумаги.
Матрос между тем говорил по двум телефонам и, время от времени прикрывая ладонью трубку, давал какие‑то указания красноармейцу в буденовке с синей звездой.
Надо бы сказать им – недоразумение получается, подумал Колобок. В семнадцатом еще не было буденовок. И самого Буденного не было. Запад будет смеяться.
Последние слова нечаянно вырвались наружу и прозвучали в комнате в тот редкий момент, когда в ней наступила кратковременная тишина.
– Что? – спросил матрос Грушев, приподнимаясь над столом и уперев в зеленое сукно телефонные трубки. – Кто там о Западе?
Тут Грушев распознал Колобка из Эрмитажа.
– А, привет! – сказал он. – Что ты там о Западе гуторил?
Колобок подумал, что Грушеву нелегко приходится вживаться в образ простого человека, морского волка.
– Здравствуй, товарищ Грушев, – ответил попросту Колобок. – Буденовку зачем на бойца надели? Это же изобретение Первой Конной, так сказать, в пламени гражданской войны.
– Дурак, – сказал Грушев. – Шпак сухопутный. У нас что, консультантов нет? Это же Тематьян – он в театрализованном представлении будет участвовать, после нашей победы. Не читал разве «Пятьдесят лет в один вечер»? Там у нас и правые уклонисты будут, и строители Беломорканала. Зачем пришел?
Спросив так, Грушев, не дожидаясь ответа, приложил к ушам телефонные трубки и локтем отпихнул обоих джентльменов в жилетках.
Зайдя сбоку, Колобок придвинулся к столу и присел на свободный стул.
– Я насчет милиции, – сказал он.
Грушев не расслышал. Колобок решил подождать.
– Петропавловка! – кричал секретарь в трубку. – Петропавловка! Сейчас к тебе политзаключенных приведут! Да нет, не антисоветчиков! Наших людей, пролетариат! Из управления охотничьего хозяйства и рыбнадзора. Значит, так, распределишь их по камерам… Да подожди ты! (во вторую трубку: это не тебе…) Так вот, постельным бельем не обеспечивай. Товарищи предупреждены. Два дня и на голом поспят. Деды их страдали… Страдали, говорю! С питанием? Питание будет. Из столовой «Белые ночи». Они знают… Нет, ты запирай, запирай, чтоб комар носу не подточил. Главное – историческая правда. Правда, говорю! Охрана в пути! А пока музейных сторожей мобилизуй. Как так – возражают? Пообещай сверхурочные! С приветом!
Грушев бросил телефонную трубку и крикнул во вторую:
– Это Коган? Коган, слухай сюда!
Зазвонил первый телефон, и Грушев поднял трубку, кинул в нее: «Сейчас!» и отбросил, как змею. Колобок подобрал осиротевшую трубку.
– Это райком? – спросил дрожащий женский голос.
– Общественный инструктор Колобок слушает.
– Послушайте, товарищ общественный инструктор, – пропел женский голос. – Синяя полоса сверху или снизу?
– Какая полоса?
– На русском национальном флаге. Я Смирницкая, из детского сада номер тридцать. Мы делаем кокарды для буржуазии.
– Сейчас. Может, товарищ Грушев вам поможет.
Колобок передал трубку матросу. Черт знает что, подумал он, не знаю, какой должен быть флаг. Привык как‑то, что красный.
– Минуточку, – сказал Грушев трубке и продолжал кричать в другую: – Так ты, Коган, не крути, ты эти штучки брось! Твой Бунд и одной комнаткой обойдется. Что я тебе, Таврический дворец отдам? Вы же активного участия не принимали. Что Маркс? При чем тут Маркс? Знаешь что, кончится мероприятие, я тебя к партответственности привлеку. Да‑да, за демагогию. Маркс нацпринадлежности не имеет. Он великий учитель рабочего класса, и ты это учти. И вообще, я тебе сейчас нескольких украинских товарищей подкину, а то ты, я вижу, желаешь в свой Бунд одних евреев набрать. Не хочешь хохлов? Тогда принимай армян. Они тоже брюнеты.
– Девушка! – схватил Грушев другую трубку. – Чего у вас? Синий, думаешь? А ты энциклопедию посмотри. Большую. Нет, говоришь? Так позвони историкам. Что? Знаешь, Смирницкая, это принципиального значения не имеет. Кто разберется – что сверху, что снизу? В телевизоре все равно серым будет.
– Ты еще здесь, Колобок? – сказал Грушев, бросая трубку. – Пошли в коридор, отдышусь.
Они вышли в коридор. Джентльмены в наклеенных бородах бросились было за секретарем да потеряли его в дыму.
– Сюда, – сказал Грушев. – А то настигнут.
Они прошли в мужской туалет. Грушев распахнул форточку, и в нее сразу влетел мокрый осенний ветер. За замазанным до половины белой краской окном висело серое грустное небо.
– Жду инфаркта, – вздохнул Грушев. Поправил бескозырку. – Ох, сорвем мероприятие, опозоримся. Китай знаешь как на нас смотрит? Внимательно… Только и ждет осечки, чтобы развернуть кампанию травли. А как с людьми работать? Слышал, что этот Коган говорит? Маркс, говорит, был еврей, а участвовал в революциях. Ну, я ему еще покажу.
– У нас тоже нелегко, – сказал Колобок. – Ты же знаешь.
– Да что там. Вы ж юнкера?
– И юнкера, и женский батальон смерти. Девчата наши.
– Ну и сидите. Вот кировцам и «Электросиле» придется под дождем через весь город идти. А вам что?
– Я к тебе пришел с вопросом. Может, не вовремя, но хочу все‑таки спросить.
– Валяй, – сказал Грушев, печально глядя в окно.
– Ты скажи, милиция на площади будет?
– Когда?
– Да во время штурма.
– А почему это тебя волнует?
– Понимаешь, посоветовались мы тут с товарищами. Есть опасность, что могут пострадать культурные ценности. Возьмут Зимний…
– Ты это не надо. Ты за кого наш питерский пролетариат принимаешь?
– Я не про пролетариат. Нас сейчас никто не слышит. Случайные люди затесаться могут. Выпьют по дороге. Ну и дадут прикладом по витрине. Я ж о государственном забочусь.
– М‑да, – сказал Грушев. – Есть и такая опасность. Но небольшая.
– Так будет милиция? Может, ее в Эрмитаж поставить?
– Понимаешь, какая история получается. Милицию мы тоже мобилизуем. Форму им полицейскую выдаем. Городовыми и околоточными станут. ОРУД в жандармы пойдет. Людей‑то не хватает.
– Всех?
– Что всех?
– Всех милиционеров в жандармы? Грушев присел на подоконник.
– Я тебе конфиденциально говорю. Меня самого это беспокоит, – сказал он наконец. Вынул пластиковый пакет, набитый табаком, кусок газеты и неумело свернул самокрутку.
– Мы бы, конечно, – продолжал он, – могли в жандармов еще кого одеть, но тут два соображения было. Во‑первых, у штатского опыта нет, а во‑вторых, хочется, чтобы милиционера даже в такой праздничный день отличить можно было. Ведь у народа к форме уважение имеется. Ясно?
– А КГБ мобилизовать?
– Знаешь, куда они меня послали?
– Тебя, Коммунистическую партию?
– А у них указание – фиксировать, кто себя в городе будет неправильно вести. Для последующих мер.
– Ну тогда хоть жандармский наряд в Эрмитаж направь. На всякий случай.
– Это сделаем. Пожалуй, еще пожарную машину подкинем. Только вам придется их оборудование к системе горячего водоснабжения подключить. Если в случае чего поливать народ придется, так чтобы не простужались. А то неприятностей не оберешься.
– Пожарников все‑таки не стоит, – сказал на это Колобок. – Они такую грязь в залах разведут, что хуже восставшего народа.
– Добро. Это как хочешь. С директором посоветуйся. Значит, пропускай их за баррикаду и ни шагу дальше. В случае чего звони прямо в обком. Меня‑то не будет. Я на «Авроре» буду, залп совершать. Доверили.
– Ну я пошел.
– Давай. И без паники. Народ, повторяю, у нас сознательный. Хороший народ!
3
Керенский стоял перед зеркалом и пытался надвинуть короткий, торчком, парик таким образом, чтобы скрыть редеющие курчавые волосы на висках. Волосы были темнее парика и тугими завитками обрамляли халтурное произведение ленфильмовских парикмахеров. Керенский с грустью подумал о том, что придется быть сдержаннее в движениях. Он сложил руки на груди. Похоже.
По коридору медленно шли два министра. Керенский не знал их в лицо, но подумал, что по комплекции они должны быть Милюковым и Гучковым. Он помнил их фамилии по учебнику истории.
С министрами шел Розенталь, администратор театра Ленсовета. Он заведовал труппой совета министров.
– Товарищ Яманидзе, – сказал он Керенскому, – познакомьтесь. Эти товарищи будут работать с вами.
– Седов, – представился первый.
– Сульженицкий, – представился второй.
– Конкретных ролей товарищи не получили. Ждем списка совета министров, – сказал Розенталь. – Как пришлют из музея Революции, распределим по внешним данным.
– Где нам пока ждать? – спросил Керенский‑Яманидзе.
– Посидите в вестибюле.
– Мы лучше в буфет спустимся, – возразил Седов. – Познакомиться надо. Как‑никак с завтрашнего дня будем руководить страной.
– Только чтобы без излишеств, – предупредил Розенталь. – К восемнадцати ноль‑ноль быть как стеклышки. Проведем освоение декораций.
Министры спустились в буфет. Буфетчица не узнала Керенского. Это Керенскому не понравилось. Он достал из кармана роль, напечатанную на плохой машинке, и уселся за столик, ожидая, пока Седов с Сульженицким сообразят насчет питания.
– Граждане свободной России! – бормотал Яманидзе, стараясь придать голосу интеллигентность. – Сегодня решается судьба свободы и демократии! – Роль Керенскому нравилась.
В буфет забежал Розенталь и представил министрам царского адмирала.
– Из райкома, – сказал он. – Третий секретарь. Замминистра обороны. Будет с вами в Эрмитаже. Так что прошу любить и жаловать.
– Это можно, – пропел Сульженицкий. – Мы с вами, господин адмирал, в одном лагере.
– Меня вообще‑то надо называть вашим превосходительством, но для вас я пока Иван Сидорович, – строго сказал адмирал.
– Иван Сидорович, – спросил Седов, возвратившийся на минутку от стойки, – два рубля в советской валюте найдется? За победу социалистической революции надо выпить.
Адмирал откинул полу шинели и вытащил пластиковый бумажник.
– Гоните рубль сдачи, эксплуататор, – сказал он и улыбнулся доброй, усталой улыбкой.
Седов дал рубль сдачи.
Присели. Адмирал разливал коньяк и рассказывал о том, как командовал ротой на Втором Белорусском. Черные орлы на его эполетах мерно шевелились и, казалось, взмахивали пышными крыльями.
– Граждане свободной России! – кричал Керенский, немного захмелев. Парик сбился набок, и он уже совсем мало походил на премьера Временного правительства. – Родина в опасности!
Адмирал укоризненно качал головой и негромко повторял:
– В случае чего – билет на стол. Понимаешь, на стол.
– А я тебя сгною. И на погоны не посмотрю! – грозил Керенский. – У меня, мать твою, верные казаки! У меня в обкоме рука!
Министры смущались и обильно закусывали частиком в томате. У них еще не было фамилий и портфелей, и это ставило их в ложное положение.
Прибежал Розенталь.
– Ах! – сказал он. – Я это отлично предполагал. А у меня еще вся Государственная Дума на шее висит. Всех одень, обуй в импортную обувь.
Розенталь быстро опрокинул рюмку коньяка и повторил, убегая:
– Чтобы к восемнадцати ни в одном глазу.
– Ни‑ни, – сказал Керенский.
Адмирал тихо поднялся и ушел писать докладную на Керенского. Он писал ее непосредственно на имя контрольной комиссии и цитировал Керенского на память.
К восемнадцати Керенский крепко подружился со своими министрами. Они обнялись и дружно пели «Боже, царя храни». Слов они не знали, но все равно получалось красиво.
– Я тебя Милюковым сделаю, – кричал Керенский в паузах. – Ты моей правой рукой будешь, Седов. Пост дам. Уважение обеспечу. В историю войдешь.
Керенский размахивал сорванным с головы париком, и буфетчица, узнав его наконец, тихо улыбалась. Она любила Яманидзе. Он был широкий мужчина и кавалер.
В восемнадцать прибежал взмыленный озабоченный Розенталь и, подталкивая в толстые буржуазные зады, увел министров на заседание Государственной Думы последнего созыва. Яманидзе шел сзади и повторял:
– Граждане свободной России! Счастье не за горами! Мои верные казаки ждут приказа!
4
На складе была очередь, и Зося проторчала там до четырех часов. Она волновалась, что не успеет в детский сад за дочкой.
Молоденький лейтенант милиции перед ней получал жандармскую форму. Он немного смущался и даже сказал Зосе:
– Помните у Лермонтова:
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ
– Да, – ответила Зося. – Это когда он уезжал на Кавказ.
– Жандармы были ненавистной народу организацией, – сказал лейтенант. – А я на заочном юридическом учусь. На четвертом курсе. Вы кого будете изображать на торжествах?
– Ой, и не говорите, – ответила Зося. – Мы женский ударный батальон. Охрана Зимнего.
– Маяковский про вас писал, – сказал лейтенант. – Только не помню точно слов. Что‑то обидное.
– Как уговорю моих девчат, даже не представляю, – сказала Зося. – Говорят, у нас на рукавах будут череп и кости. Такой позор!
– Ничего в этом позорного нет, – вмешался в разговор старичок в пенсне. – Я отлично помню, что в среде этого батальона были очень порядочные женщины, попавшиеся на удочку царской агитации. Например, моя тетя Глафира Семеновна, впоследствии видный работник на ниве сельского просвещения, незаконно репрессированная в тридцать пятом году.
– А вы кто будете? – строго спросил лейтенант.
– Черная сотня, – сказал старичок не без гордости. – С хоругвями и образами.
– А чего же здесь вам получать?
– Как чего? А поддевки, картузы, сапоги? У нас очень обширный инвентарь. Говорят, все импортное.
– М‑да… – Лейтенант смотрел на старичка с неприязнью. Зосе показалось, что он хочет сказать: а не был ли ты, голубчик, в этой черной сотне до семнадцатого года?
Но старичок как будто угадал мысли лейтенанта, улыбнулся лукаво и сказал:
– Вы, молодые люди, только не поддайтесь ложному впечатлению, что я сочувствую правым силам. В черную сотню выбраны люди многих национальностей. В том числе армяне, евреи, грузины и даже один товарищ корейского происхождения. Это наш интернациональный долг показать врагов во всем их гнусном обличье.
Лейтенант ушел следить за погрузкой мундиров, старичок задремал на деревянной скамье.
– Вашу накладную, пожалуйста, – сказала женщина в окошке.
Зося передала ей документы.
– Вам, девушка, придется самой на склад пойти. Шинелей не хватит. Кое‑кто куртки из кожемита получит. Если возражаете – завскладом вторая дверь налево.
– Я не возражаю, – сказала Зося, которая очень спешила. – Пусть будут куртки.
– Дура! – проснулся черносотенец. – Они натуральную кожу себе расхватали. Ты на них в райком подай.
Когда кладовщица откричала свое на старичка, Зося, получив куртки, черные шинели и еще специальный пакет с нашивками, которые надо будет завтра пришивать своими силами, села в кабину рядом с шофером.
Грузовик долго ехал по Московскому проспекту, потом свернул на Лиговку. Улицы были оживлены. С брандмауеров снимали вывески сберегательных касс и рекламы Аэрофлота. Перед воротами какого‑то номерного предприятия на мокром асфальте лежал длинный лозунг «Встретим славное пятидесятилетие новыми трудовыми успехами». По лозунгу, который уже никому не пригодится, бродили суровые такелажники, готовя к подъему щит с рекламой гильз «Катык». На углу в маленьком киоске продавали красные банты и трехцветные кокарды. Из школы шли старшеклассники, гордясь гимназическими гербами на фуражках.
У Московского вокзала была обычная толчея, и представитель «Интуриста» отчаянно спорил с носильщиками. Большая группа интуристов стояла перед гостиницей «Октябрьская» и глазела, как снимают с крыши двухметровые буквы названия гостиницы.
На Невский грузовик не пустили. Пришлось пробираться вокруг. Зося, хоть и спешила, попросила шофера проехать мимо Смольного. Шофер согласился. Ему самому хотелось взглянуть на штаб Октября за два дня до восстания.
Памятник Ленину решили не демонтировать, а только покрыли брезентом, чтобы не нарушать исторической правды. Перед въездом стоял броневик с надписью «Смерть царизму!» и названием «Илья Муромец» на борту. Около броневика суетились телевизионщики. В броневике будет одна из передвижных телестанций.
Зося вдруг подумала, что лейтенант неправильно получал форму. Какие там жандармы в октябре семнадцатого? Но тут же она отогнала от себя эту мысль. В обкоме лучше знают.
Антипенко ждал Зосю внизу.
– Ты куда затерялась? – напустился он на нее. – Как будто не могла кого послать! Быстренько сдай шинели и сразу в распоряжение товарища Розенталя.
– Не могу, мне в детский сад за Галкой ехать. Моего Колю в Викжель мобилизовали. Срывать связь между Москвой и Питером.
– Вот что, тогда быстренько познакомься с Розенталем. Он за Временное правительство отвечает. Большим доверием облачен.
– Ладно. Только недолго. А вы сами выгрузку обеспечьте.
– А это что?
– Это возьмите. Это черепа и кости. Наши нашивки.
Зося поднялась на третий этаж, где ее ждали товарищ Розенталь и два министра Временного правительства.
– Здравствуйте, – сказал Розенталь. – Мы хотели обосноваться в нашей комнате. В той самой, в которой нам скажут: «Кто тут временные, слазьте».
– Там сейчас переоборудование идет, – сказала Зося. – Вам, наверно, товарищ Антипенко говорил.
– Он нам много чего говорил, – сказал актер Сульженицкий. – Но сами посудите, каково нам одним, без поддержки общественности, декорацию осваивать.
И в этот момент в комнату вошел Керенский. Он уже протрезвел, и парик сидел на нем очень удачно. Так, что полностью скрывал черные завитки на висках.
– Нодар Яманидзе, – представился он Зосе и долгим взглядом погрузился ей в глаза.
Зося попыталась оторваться от огненного взора Нодара и потерпела поражение. Командир женского батальона поняла, что премьер Временного правительства ждал встречи с ней, может быть, уже несколько лет. Как слепая, Зося сделала несколько шагов навстречу премьеру, и только резкий голос Розенталя остановил ее:
– Так проводите нас, будьте так любезны, в зал заседаний.
Зося резко повернулась, чтобы не видеть больше черных огненных глаз Керенского. Но, даже не глядя, она чувствовала на спине этот взгляд и понимала, что дело революции потерпело первое поражение. Командир женского ударного батальона, общественница, комсомолка, жена и мать Зося Петрова из отдела фарфора поняла, что она и ее подчиненные отдадут все силы, чтобы защитить премьера и его правительство от справедливого гнева восставших масс.
И когда Боря Колобок, ожидавший в коридоре Зосю, увидел ее глаза, сияющие внутренним женским, преданным и постоянным светом, он понял, что Эрмитаж, может быть, удастся отстоять.
Боря Колобок после визита в райком осознал, что на помощь партии и милиции рассчитывать не приходится. И сознание этого, наложившее дополнительную ответственность на Колобка, придало ему новые силы.
5
– В отличие от Великой Октябрьской социалистической революции наши торжества пройдут в несколько более короткие сроки, – сказал секретарь обкома по пропаганде и агитации. – Мы не имеем права отключать на два дня крупнейшие промышленные объекты нашего города. Кстати, товарищи из Москвы могут подтвердить, что там, в нашей столице, взятие Кремля рассчитано на три часа.
– Три с половиной, – поправил представитель ЦК.
– Три с половиной. Это диктуется соображениями уличного движения и интересами телезрителей. Мы, конечно, не можем в три часа разгромить силы контрреволюции. Это было бы несолидно.
Одобрительный гул зала поддержал слова секретаря. Грушев намотал на указательный палец ленточку бескозырки и сказал сидевшему рядом Бурундукову с «Электросилы»:
– На нас Запад смотрит.
– Да и китайцы не прочь палку в колеса вставить. Секретарь, будто подслушав слова Бурундукова, продолжал так:
– Вы все, товарищи, понимаете сложность международной обстановки. Пекинские догматики спят и видят, как бы опорочит славное пятидесятилетие. Строго между нами, я могу сообщить, что вчера на Невском видели корреспондента агентства Синьхуа, который переписывал от руки вывешенные нами вывески и призывы семнадцатого года. (Шум в зале.) Мы так полагаем, товарищи: каждый из нас несет личную ответственность за каждую запятую, за каждый штрих, за каждое слово. Представляете, какой шум поднимет не дружественная нам пресса, если они поймают нас на исторической ошибке. Теперь перейдем к насущным нашим проблемам…
– Повезло тебе, Гриша, – сказал Бурундуков. – Мне вообще не придется поучаствовать в событиях. Остаюсь в заводоуправлении на связи.
– Товарищи! – выступил после короткого перерыва член ЦК из Москвы. – Товарищи, мы все отлично понимаем двойную и даже тройную ответственность, которую накладывает на каждого из нас решение ленинского Центрального комитета о воспроизведении в день пятидесятилетия Октября событий семнадцатого года. Во всей их сложности и порой противоречивости… Весь мир должен воочию увидеть, что мы готовы хоть ежегодно штурмовать и брать Зимние дворцы ради демонстрации торжества марксизма‑ленинизма! Пусть все видят, что наши мозолистые пальцы еще способны держать винтовку! Кульминационным моментом торжеств будет, как вы знаете, штурм цитадели реакции – Зимнего дворца. Этот штурм послужит сигналом для революционных событий в Москве, столице нашей родины. – Член ЦК сделал паузу и не спеша налил воды из графина, стоявшего на небольшой трибуне. Вода лилась в стакан тонкой струйкой, и плеск ее в стакане отчетливо передавался через микрофон по всему залу. – Предыдущий оратор останавливал ваше внимание на международных аспектах завтрашних событий. Это, без сомнения, важно. Но главная наша цель – собственный советский народ. Поэтому мы, вспомнив высказывание одного из марксистов‑ленинцев: «Кадры решают все», должны поставить на особо ответственные участки верных партии и сознательных, желательно непьющих товарищей. Товарищи, восстание – это искусство. Так учил нас Ленин! Отнесемся же к показательному восстанию как к искусству!
Бурные аплодисменты потрясли небольшой зал обкома.
Вождь бундовцев Коган обернулся к Грушеву и крикнул, не переставая аплодировать:
– Мы им покажем!
Казацкий чуб Когана растрепался и закрыл правый глаз.
– Все на штурм Зимнего! – крикнул кто‑то в зале. Снова загремели аплодисменты.
– Зайди ко мне, инструкции получишь, – догнал Грушева в коридоре инструктор обкома.
Они зашли в кабинет.
– «Аврору» уже сегодня ночью начнут перетягивать к Кронштадту, – сказал инструктор. – Пока с нее сняли все надстройки и отправили вниз по реке на баржах. Твоя задача… я знаю, что ты в курсе, но повторить не мешает. Твоя задача – быть тем старшиной, который откажется поверить капитану, что фарватер мелкий. Выйдешь на шлюпке в Неву и промеришь лотом фарватер. Потом возьмешь в свои руки командование кораблем и приведешь его на позицию для обстрела Зимнего. Ясно?
– Да уж две недели как ясно.
– А вот то, что я тебе скажу, еще неясно. Строго между нами. Почему, ты думаешь, надстройки с крейсера сняли? Не знаешь. Объясню. Сегодня ночью подвезут другую пушку. Которая может стрелять боевыми. И дадут вам два настоящих снаряда. Дадите залп по Зимнему. Теперь ясно?
– Что‑то нет.
– Газеты читать надо. Слушай сюда. Есть среди наших интеллигентов тенденция изображать залп Авроры, как будто его на самом деле не было. Будто там был один сигнальный выстрел и притом холостой. Мы посоветовались с товарищами и решили дать им по зубам. Так, чтобы в 67‑м был настоящий залп!
– Но ведь там же, в Эрмитаже, картины и так далее…
– За это не беспокойся. Электронщики все подсчитали. Снаряды попадут в зал западного искусства. В этих самых… импрессионистов. Особой потери не будет. Теперь ясно? Ну иди, исполняй. И чтоб ни‑ни.
Грушев подумал, что Колобок кое в чем был прав.
– Учти, это личное секретное распоряжение товарища Брежнева!
6
В пять часов вечера все заводы Ленинграда протяжно, нестройно и тревожно загудели. Гудел Кировский завод, уже не Кировский, а Путиловский, гудел завод «Электросила», гудели номерные предприятия, украшенные разнообразными вывесками, гудел хлебокомбинат, гудели военные суда в Кронштадте, гудели поезда на Московском, Витебском, Варшавском и Финляндском вокзалах, гудели речные трамвайчики, гудели такси, и установленные повсюду радиодинамики покрывали этот гуд позывными «Широка страна моя родная».
И по мере того, как стихали гудки, северная Пальмира чудесным образом преображалась. Постовые покидали посты, взбирались в синие милицейские фургоны и вылезали вновь в виде полицейских и городовых в низких папахах. Из‑за угла Литейного вышла плохо организованная толпа мужчин в поддевках и начищенных маргарином сапогах в гармошку. Мужчины несли иконы и хоругви и пели по бумажкам «Боже, царя храни». Исчезли с улиц такси, и вместо них по Невскому, непривычно затихшему и опустевшему, покатили лихачи. Оттесняя зевак к тротуарам, проскакали казаки. На пиках трепетали сине‑бело‑красные флажки. Французские флажки, предложенные экспертом из музея Ленина. Древний «форд» с неизвестными в военной форме без знаков отличия выскочил на мост и, запыхтев синим дымом, застрял у клодтовского коня. На ломовой телеге, переодетые селянами, ехали кинооператоры. Глаза объективов зловеще выглядывали из‑под распахнутых зипунов.
Темнело. Та часть населения Ленинграда, что не принимала непосредственного участия в мероприятии, толклась на тротуарах и нервно прислушивалась к голосам репродукторов. Размах действа и его реальность внушали трепет обывателям и даже непонятное желание спрятать подальше, в сундук, за двойное дно, членские билеты ДОСААФ и профсоюзные книжки. Вразброд, отвыкшие после долгого перерыва, ударили колокола Казанского собора, и руки прохожих потянулись ко лбам – перекреститься или просто отереть пот.
Автобусы «Интуриста», замаскированные под конки, стояли на господствующих местах, и оттуда очередями вспыхивали блицы.
Черносотенцы в условленном месте схватили киргиза, замаскированного под еврейского раввина, и откровенно издевались над ним, не причиняя, как и было указано, еврею телесных повреждений.
Зажглись многочисленные огни в бывших железнодорожных кассах, а ныне Государственной Думе. В окнах мелькали фигуры депутатов, принадлежащих различным фракциям. Депутаты взмахивали руками, и репродукторы, включенные на несколько минут в зале Думы, передавали гул и выкрики контрреволюционеров.
Слышались удары тяжелых орудий. Части генерала Краснова рвались к Питеру, но остановились, бессильные, по знаку сержанта ГАИ перед Пулковскими высотами.
Беспокойство ощущалось и в Зимнем дворце. В пять уехали последние автопогрузчики и самосвалы, отделив Эрмитаж от площади кое‑как скрепленной баррикадой, сооруженной из пустой тары, контейнеров, металлолома, выбракованных бревен и длинных прутьев арматуры, превративших баррикаду в подобие длинного дикобраза.
На баррикадах выстроились пулеметы и три пушки без замков, привезенные из Артиллерийского музея. Но в промежутках между стеной дворца и баррикадой было пока пусто.
Девушки – секретарши, искусствоведы, уборщицы и экскурсоводы Эрмитажа примеряли форму. В углу египетского зала Раиса Семеновна установила швейную машинку и подгоняла, несмотря на строгое указание Антипенки, шинели и куртки по росту женщинам из ударного батальона смерти. В буфете стояла очередь за кефиром и черным кофе. Ночевать придется в Эрмитаже, и завтра еще предстоит трудный день.
Антипенко распоряжался установкой раскладушек в главном вестибюле. Раскладушек не хватало, потому что они в эту ночь требовались не только в гнезде контрреволюции.
Зося, уже одетая в черную блестящую куртку с черепом на рукаве, – она вынуждена была признать, что эта форма ей идет, – сидела на подоконнике с премьером Временного правительства. Они пили черный кофе и негромко разговаривали.
– Мне так приятно, что вы меня понимаете, – сказал Керенский. – Меня редко понимают женщины.
Керенский, сказав это, опустил глаза, и взгляд его случайно упал на стройное сухое колено Зоси. Керенский вздохнул. Зося, инстинктивно почувствовав, что в ее туалете нелады, попыталась натянуть мини‑юбку на колено, но ничего из этого не вышло.
– Я женат уже восемь лет, – вздохнул Керенский и оправил парик. – Моя жена, Рита, оказалась очень ограниченной женщиной.
– Не надо так, – сказала Зося. – Я уверена, что ваша жена – милая и добрая женщина. Ей так же несладко с вами, как и вам с нею.
– Вы опять правы, совершенно правы, – вспыхнул Керенский. – Во всем виноват только я.
По коридору прошел Колобок. Он сгибался под тяжестью ящика. Второй такой же ящик тащил за ним Симеонов.
– Что у вас такое, ребята? – спросила Зося.
– Ничего особенного.
– Боря наш вождь. В смысле – сегодня он командует юнкерами. Вас арестуют?
– Нет, – ответил Керенский. – В последний момент мне удастся убежать. Переодевшись медсестрой. И я убегу в Америку.
– Очень интересно, – сказала Зося. – Вы смотрели «Мужчину и женщину»?
– Нет. Что это?
– Картина о настоящей, чистой любви. Французская.
7
Владимир Ильич Ленин обогнал товарища Ярхо и первым подошел к двери подъезда. Давно немытое стекло было серым, в подтеках от ноябрьских дождей.
– Кажется, казаков не видно, – сказал Ленин.
– И юнкеров тоже нет.
Ленин поправил повязку, скрывавшую половину лица, и надвинул кепку пониже на рыжий парик. Наверху хлопнула дверь. Телевизионная камера на площадке второго этажа стрекотала приглушенно, и в полутьме фигуры операторов казались привидениями.
– Пойдемте, товарищ Ильич, – сказал Ярхо, имитируя эстонский акцент. – В Смольном нас ждут.
– Да, уже пора.
Владимир Ильич осторожно распахнул дверь, и этот исторический жест моментально повторился миллионнократно на экранах всех телевизоров Советского Союза и телевизоров прогрессивных европейских стран, включенных в систему Интервидения.
Холодная дождливая ночь схватила путников и понесла их к мосту, к Неве, к опасности и славе. Ярхо шагал впереди. Его широкие шаги были уверенны, но осторожны. Ленин шагал сзади. Повязка мешала ему смотреть и быстро намокла, отчего казалось, что к щеке приторочена мокрая тяжелая подушка.
Поздние зрители теснились на тротуарах, и шепот: «Идет!» перекатывался вперед, забегая за несколько кварталов.
Знакомая по книгам и кинофильмам фигура вождя в длинном узком пальто с бархатным черным воротником, в рабочей кепке и с подвязанной щекой – вождя, идущего взять в свои руки руководство восстанием, – ставила все на свои места.
Нарушая все правила мероприятия, путников обогнала телевизионная машина с вращающимся локатором на крыше. Она была кое‑как замаскирована под катафалк, и цилиндры операторов и режиссера зловеще покачивались над темной улицей.
Длинное рыло камеры, высунувшееся с тылу катафалка, в последний раз дало на экраны крупным планом лицо Ленина. Зная, что его снимают, Владимир Ильич старался унять дрожь в плечах. Дождь пронизывал его до костей, и казалось, что ледяные капли стекали по печени. Заныл зуб. Еще позавчера жена настойчиво рекомендовала сходить к зубному, но в поликлинике ВТО запись была только на три дня вперед.
Ярхо отряхнулся и закурил, прикрывая огонек от ветра широкими ладонями.
– Спрячьте пачку, – сказал Ленин. – Кто пятьдесят лет назад курил «Беломор»?
– Нас не снимают, – сказал Ярхо. Он говорил уже без эстонского акцента. – Они поехали к вокзалу. Там сейчас начнутся бои.
– Прибавим шагу, – сказал Ленин. – А то разведут мосты.
– Нет. Сегодня ночью их держат путиловцы. Красная гвардия.
– Во сколько нам надо быть в Смольном?
– Пока есть время. Неплохо бы зайти куда‑нибудь согреться.
– Вы с ума сошли. Этого же не было.
– А кто знает… В ту ночь мы за ними не наблюдали. Ярхо выбросил окурок, и он внятно зашипел в черной луже.
Издалека зацокали копыта.
– А ну‑ка, отойдите, Владимир Ильич, в эту подворотню. Похоже на казачий разъезд. Боюсь, не засекли ли они, эти троцкисты, вашу явочную квартиру.
– Ближе к тексту, – строго сказал Владимир Ильич, ныряя в темную подворотню. – Какие еще троцкисты? Лева должен сидеть в Смольном и руководить, пока меня там нет.
– Не может быть!
– Да и в самом деле не может быть. Решили обойтись без этой политической проститутки! Там Подвойский и Свердлов. Верные люди. Из ревизионной комиссии.
Казачий разъезд быстро проскакал мимо подворотни, и брызги, поднятые копытами коней, влетели, как от проезжающего автомобиля, в подворотню.
– Пойдем дальше?
– Пойдем. И осторожнее. Шутки шутками, а если мы попадемся на глаза казачьему патрулю, может получиться скандал.
На углу горел костер. Вокруг стояли красногвардейцы. Винтовки были сложены в пирамидку.
– Свои, – сказал Ярхо. – Еще через два квартала мост. А там до Смольного рукой подать.
– Скорей бы, – сказал Ленин.
Один из красногвардейцев повернулся на звук шагов.
– Кто идет? – спросил он.
– В Смольный, – ответил Ярхо. – Пароль – победа. Телевизионщики не проезжали?
– Нечего вам в Смольном делать, – сказал красногвардеец.
– Ты так не разговаривай, – стараясь быть вежливым, сделал замечание Ярхо. – Не знаешь, с кем говоришь.
– Знать не хочу, – сказал красногвардеец.
– А надо бы догадаться. Вас предупредить должны были.
– Знаешь что, – вдруг разозлился красногвардеец. – Вместо того, чтобы нотации читать, предъявил бы документы.
Остальные красногвардейцы тоже повернулись к задержанным и внимательно прислушивались к разговору.
– Какие еще документы? – грозно спросил Ярхо. – Не может быть у нас документов. Мы же пароль сказали. И давайте в сторонку, не задерживайте. А то потом локти кусать будете, как в обкоме вызовут вас на ковер.
– Вась, а он тебя пугает, – сказал один из красногвардейцев.
Красногвардейцы довольно громко, не опасаясь казачьих патрулей, засмеялись.
Может быть, вся эта история и закончилась бы благополучно, не вмешайся в нее Владимир Ильич.
– Товагищи, – вдруг сказал он. – Я указываю вам на недостаток геволюционной бдительности. В тот момент, когда вгаг может победить, ваши гужья стоят незагяженны.
– А это что за маскарадная маска? – поинтересовался красногвардеец. – Зуб болит? Врезали?
– Товагищи! – уже громче сказал Ленин. – Я вам именем геволюции пгиказываю…
Он не договорил. Красногвардеец подошел к нему вплотную и сказал:
– Как будто они.
– Мы, мы, – поддержал его Ярхо, решивший, что его наконец узнали.
– И точно, – сказал второй красногвардеец. – Один высокий громила, он замок снимал. Второй, маленький, круглый, и пришил тетю Зою.
– И документов нет, – поддержал его второй.
– Вы же путиловцы! – успел крикнуть Ярхо, когда ему начали крутить руки.
– Мы не путиловцы, а ОБХСС, – ответил красногвардеец и показал под светом повязку с надписью «дружинник» и без ятя на конце. – Нас вместо милиции здесь оставили. Не всем же в зрелища играть. Кому‑то и работать надо. А то ваш брат под шумок тут такого натворит… Ну ладно, пойдем в отделение, там разберемся.
Тем временем другой красногвардеец всмотрелся в лицо Ленина и, ничего не разглядев, сказал товарищу:
– Включи‑ка фонарик. Чтой‑то лицо его мне очень знакомо.
– Я – Ленин, – сказал Владимир Ильич. Ему уже нечего было терять. Время шло, и в любой момент могло начаться восстание. «Вчера было рано, завтра будет поздно», – повторял он про себя.
Красногвардеец вонзил ему в лицо луч карманного фонарика. Ленин зажмурился. Одним движением красногвардеец сорвал с Ильича мокрый парик, повязку и, как назло, нижний парик с лысиной и бородку.
Человек, стоявший перед красногвардейцем, уже ничем не напоминал вождя революции.
– Обознался, – сказал красногвардеец. – А то чем‑то показался похожим.
– Я – Ленин, – повторил вождь революции.
– А ты проходи, проходи. За Ленина ты еще дополнительно получишь. Таким именем не шутят, – сказал красногвардеец, подгоняя задержанных.
8
Часам к трем ночи Керенского вызвали на совещание кабинета министров. Он сказал Зосе, что постарается поскорее вернуться, и Зося пока, чтобы не заснуть завтра, в самый разгар событий, прикорнула на диванчике у гардероба. Там ее и нашел Боря Колобок, собиравший к себе командиров отрядов.
Ночь была злой и темной. С крыши Генерального штаба вырывались слепящие лучи прожекторов, ощупывали фасад Зимнего, пустые баррикады и елозили по площади, освещая овалами дождливую рябь луж. Несколько милиционеров, переодетых городовыми, но с красными повязками на рукавах, закрывали ворота в арке Генштаба. Ворота будут распахнуты в момент штурма.
Из окна комнаты Колобка было видно, как первые отряды рабочих и красногвардейцев подходят со стороны Исаакиевского и прячутся от дождя под промокшими, еще не совсем облетевшими деревьями.
– Докладывайте обстановку, – сказал собравшимся Колобок. Он был строг и подтянут и сильно отличался от давно знакомого и привычного Колобка.
– Мои юнкера уже собрались внизу, – сказал Симеонов. – Почти все. Человек пять отсутствуют, в основном по уважительным причинам. Загребин с завтрашнего дня уходит в отпуск, у него путевка есть – я его отпустил. У одного мать заболела. У Бугаева обострился радикулит.
– Как с оружием?
– Все в порядке. Двадцать винтовок, один пулемет. Четырнадцать охотничьих ружей. И выставка пистолетов из галереи нижнего этажа.
– Дудник, как у тебя?
– Свинец достали. Льем пули. К утру килограммов сто сделаем. Подгонять только трудно. Часть оружия – семнадцатого‑шестнадцатого веков.
– Мальчики, – сказала Зося, – вы с ума сошли. А если Антипенко узнает?
– Ничего не узнает, – сказал Извицкий. – Я позаботился. Мы с ним восемьсот грамм коньяку приняли за победу революции. Кстати, я пошел бы поспал. Все равно пушки мои без замков.
– Иди, – сказал Колобок. – Спасибо за службу. Как твои девчата, Зося?
– Всего по списку у меня восемьдесят человек. Сейчас в наличии сорок три. Сами понимаете, у кого дети, у кого еще что. Завтра, может, еще человек пятнадцать‑двадцать подойдут. И все‑таки вы, по‑моему, зарываетесь. Что у вас, война, что ли? А вдруг кого‑нибудь раните?
– Вот что, ты, Зося, не очень здорово информирована. Придется тебя просветить. Симеонов, будь другом, приведи пленного.
Зосе вдруг вся эта сцена показалась совершенно нереальной. Вот стоит ее хороший приятель, младший научный сотрудник Эрмитажа Боря Колобок, на нем офицерский, – а может, это юнкерский? – мундир. На боку кобура. И говорит Колобок о патронах, винтовках и пленных. Может, у него не все в порядке? Позвонить куда‑нибудь? Но Симеонов – он же серьезный парень, председатель месткома…
Симеонов втолкнул в дверь парня. У парня были связаны руки. Парень как парень. Брюки‑клеш с «молниями» внизу, волосы ниже ушей и куртка без воротника. Приятный в общем парень.
– Посади его, – сказал Колобок.
Парень не спеша сел на пододвинутый стул. Юнкера пересели так, чтобы получше видеть пленного.
– Кончай баланду, – сказал парень высоким голосом. – Закурить лучше дай.
– Фамилия? – спросил Колобок. – Имя?
– Я ж говорил. А сейчас прошу по‑человечески: дай закурить.
– Развяжи ему руки.
Парень потер онемевшие кисти и взял «Шипку» у Симеонова.
– Теперь говорить будешь?
– А чего говорить? Все и так знаете.
– Начнем сначала. Некоторые тут наши товарищи еще не все слышали. Как зовут тебя? Ну!
– Про Зою Космодемьянскую слышали, белые сволочи? – спросил пленный.
– Ладно, больше тебя слышали. И про Павлика Морозова, и про генерала Карбышева. А ты Ефимов Владислав, 1948 года рождения, проживаешь на Второй линии Васильевского острова. А если дальше все не расскажешь, морду набьем.
Колобок говорил серьезно, и парню это не понравилось.
– Не имеете права, – сказал он. – Сейчас не война и вы не милиция.
– Что делал в Эрмитаже?
– Ничего.
– А ну‑ка, Симеонов, покажи ему свою дуру.
Симеонов полез в обширный карман галифе и извлек оттуда злодейского вида пистолет времен войны за испанское наследство.
– Мы тут шуток шутить не собираемся. И в милицию тебя сдавать не будем. Некогда. Так что отвечай: зачем в Эрмитаж пробрался?
Парень покосился на пистолет, затянулся и сказал:
– В разведке был.
– Вот так‑то лучше. Кто послал?
– Ребята.
– Какие?
– Да чего вам говорить, все равно не знаете их. Ну, Колька Косой.
– И что узнать ты должен был?
– Я вам скажу, свои пришьют.
– Не пришьют. А не скажешь, мы пришьем. Сейчас у нас здесь действуют законы военного времени. Ты не смотри, что мы в юнкеров переодеты. Мы такие же советские люди, как и ты, только посознательней тебя. Отвечай, гад, пожалеешь.
И в голосе Колобка прозвучало настолько твердое убеждение в том, что пленный обязательно пожалеет, что парень опустил глаза вниз и спросил:
– А пытать будете?
– Пока без пыток обойдемся. А если будешь упрямиться…
– Ладно, скажу! Только чтоб наши не узнали. Послали меня на разведку, чтобы узнать, какие еще входы есть, чтобы не охранялись.
– Зачем?
– А нам сказали, что, когда Зимний возьмем, можно будет почистить. Как Суворов. Три дня на разграбление, молодые соколы. Вот мы и решили узнать, как скорей других к дворцу прорваться. Чтобы первыми. Тут, еще сказали, и бабы будут.
При последних словах пленного Зося вздрогнула. Ей все еще казалось, что происходит какая‑то ошибка, недоразумение. Все выяснится, и этого милого юношу отпустят к маме…
– Какие бабы? – спросила Зося и не узнала своего голоса.
– Да такие, как ты, чтобы побаловаться. Ведь штурм же.
– Это же безобразие! Срочно нужно позвонить!
– Обсудим потом. Сядь, Зося, не мешай допрос кончить.
Зося огляделась. Лица юнкеров были серьезными. Никто не собирался шутить.
«Как же так, – думала Зося, – как же это может случиться на пятидесятом году советской власти, когда наш народ уже настолько воспитан и сознателен?»
– Давай дальше, выкладывай.
– А что выкладывать? Как я пробрался, меня ваши и взяли. Узнали. Бабка какая‑то вредная, уборщица, ты, говорит, что делаешь? Ну, я рванул по коридору, в каменный ящик спрятался, а там мертвяк лежит. Я дал голосу, меня и взяли.
– Ясно. И многие так думают, как ты?
– Да, считай, многие, – сказал парень. – А то чего бы мне спешить в разведку идти?
Парня увели.
– Теперь я хочу вам одну штуку показать, – сказал Колобок. – За мной!
У небольшого окна, выходящего в сквер у правого торца, Колобок остановился. В комнате не горел свет, и отблески прожекторов позволяли разглядеть то, что творилось на улице. Темные фигуры перебегали от дерева к дереву, устраиваясь в засадах поближе к боковому фасаду.
– Сюда, поближе, – сказал Колобок. – Видите? Часть стекла была аккуратно вырезана и чудом держалась в раме.
9
Матросы завинчивали последние болты – крепили орудия к палубе. Кран подавал на борт тюки с листовками и бенгальскими огнями. «Аврора» выходила в Неву через час.
Капитан, из бывших особистов, сухой недоверчивый человек в больших круглых очках, вызвал к себе председателя судового комитета Грушева.
– Неприятно мне с вами разговаривать, – сказал он откровенно. – Всю жизнь я других драл, а пройдет каких‑нибудь часа два и меня самого возьмут как контрреволюционера.
– Ничего, – успокоил его Грушев. – Ради революции можно и пострадать. Дурного мы вам не сделаем. А как кинооператоры и журналистская сволочь отойдут подальше, отпустим.
Последний тюк с листовками декрета о земле опустился на броневую палубу.
– Снаряды привезли? – спросил Грушев у капитана.
– Все сделано.
– Где лот и причиндалы?
– В шлюпке, все приготовлено. Как только выйдем к Балтийскому заводу, созовем судовой комитет и я… – тут капитан сдержанно вздохнул, – тут я откажусь вести крейсер дальше. Под предлогом мелководья. И тогда вам придется на шлюпке выйти лотом промерить, вернуться и сообщить команде, что я… ну, в общем, что я антисоветский элемент.
– Контра, – вежливо поправил капитана Грушев.
– Эта самая. Вы в шлюпку сядете, плащ не забудьте – дождик.
– Нельзя – с вертолета телекамеры будут снимать.
«Аврора» дала длинный сигнал. На клотик вполз красный флаг. Крейсер восстал.
Прогулочный трамвай с интуристами некоторое время следовал за легендарным крейсером вверх по Неве, потом отстал – туристов повезли осматривать Кировский стадион.
Грушев заглянул в каптерку – взял у артельщика пачку сигарет. Он волновался. Тут же разодрал пачку и закурил. Именно в этот момент в каптерку ворвался матрос и крикнул, как положено:
– Измена! Капитан, мать его, не хочет дальше крейсер вести!
Грушев молнией взлетел на мостик. Капитан стоял, полузакрыв глаза, и рука его твердо лежала на машинном телеграфе. Стрелка телеграфа замерла на «самом малом».
–Что делаешь, капитан? – входя в роль, закричал Грушев. – Что делаешь, сволочь? Там наши товарищи гибнут!
От неожиданной ярости Грушева на мостике наступила гробовая тишина. И все услышали, как со стороны города доносятся частые выстрелы.
– Не могу, – ответил капитан. – Не могу быть предателем. Ведите крейсер. Глубины должны быть нормальными. Я вам как ветеран партии обещаю.
Грушев сделал вид, что не расслышал этого малодушного монолога.
– Сам пойду на шлюпке, – сказал он. – Промерим глубины. Судовой комитет берет власть в свои руки.
– Да я сам согласен, – упорствовал капитан. – Я же член партии с двадцать девятого года!
– Дура! – прошептал Грушев, когда матросы уводили капитана. – Дура, тебя же не посадят.
– Это как знать, – ответил капитан.
Телевизионный глазок, спрятанный в углу штурманской, неуверенно замигал. В эти минуты передача с «Авроры» была прервана.
Грушев молодецки вскочил в шлюпку. Гребцы уже сидели на банках и только ждали сигнала, чтобы рвануться вверх по течению.
– Вперед! – сказал Грушев. – Умрем, но исторический залп произведем!
Вертолет телевидения спустился совсем низко и снимал Грушева крупным планом.
– Лот давайте, – сказал Грушев. – Лот где?
– А черт его знает! – растерянно произнес рулевой. – Вроде только что здесь был.
– Что‑о‑о?
– Не знаю. Может, забыли в суматохе.
– Так как же мы промеры сделаем?
– А вы не волнуйтесь, товарищ Грушев, – сказал один из гребцов. Грушев его знал в лицо – гребец работал в районном отделе комитета. – Мы же так, для видимости…
– Точно, – добавил рулевой. – Сделайте вид, что опускаете. Только поскорее – с вертолета вроде бы машут. Им все равно в дожде не разглядеть.
Грушев наклонился над бортом и сделал вид, что опускает в воду веревку. Он не знал, каким бывает лот, но вернее всего – это и есть веревка. Серые волны плескались у самой руки. Над Ленинградом поднималось дождливое утро – седьмого ноября 1967 года.
– Ну, хватит, что ли?
– Хватит, – согласился Грушев. Его вдруг охватило разочарование. Главная часть роли была уже сыграна. В дальнейших событиях ему отводилась подчиненная роль. Для Грушева праздник кончился. Но секретарь райкома умел держать себя в руках.
– Заворачивай, – сказал он. – Пошли к Зимнему.
Через пять минут шлюпка причалила к борту. Машины крейсера заурчали, и он двинулся вверх по реке. Еще через пять‑десять метров он сел на мель.
10
Заседание Временного правительства прервалось под утро. Керенский снял парик и вышел в коридор, вытирая им лоб. Свет юпитеров в зале заседаний был неприятен не только яркостью, но и тем, что превращал зал в баню.
Министры поспешили вниз, в буфет, операторы выключили свет и отвезли камеры по углам, а затем отправились по домам.
Керенский нашел Зосю дремлющей на диванчике. Во сне Зося показалась премьеру совсем девочкой, тоненькой и беззащитной. И черная куртка с черепом и костями на рукаве только подчеркивала ее беззащитность. Керенский надел парик и, нагнувшись, тихо и нежно поцеловал Зосю в лоб.
Зося почувствовала прикосновение запекшихся после долгих речей губ и открыла глаза. Глаза ее в полутьме были почти черными и совершенно бездонными.
– Это ты, Саша? – спросила она тихо и чуть хрипловато.
Керенский чуть было не возразил, но тут же вспомнил, что он не Яманидзе и не Нодар. Он – Александр.
– Ты так красиво спала, – сказал Керенский.
– Ой, не говори чепухи. Я страшная, как собака. Керенский присел рядом на диванчик.
– Не вставай, – сказал он. – Еще есть время. Утро не наступило.
– Да, ты слышал? – спросила Зося, чуть отодвигаясь от Нодара. – Оказывается, в самом деле Эрмитажу грозит опасность.
– Колобок докладывал об обстановке на совете министров, – сказал Керенский. – Ничего страшного. Мы созвонились со Смольным – во всех наступающих частях будет проведен инструктаж. Очевидно, кое‑кто без злого умысла слишком буквально понял свою задачу.
– Значит, ты полагаешь, ничего страшного?
– Самое страшное, – сказал Керенский, наклонившись к самой щеке Зоси, – самое страшное, что через час‑два нам надо будет уже быть на своих местах, а что дальше… никто не знает.
Щека Зоси была горячей и мягкой со сна. Даже в полутьме Керенскому были видны отпечатки грубой ткани дивана – красная сетка на щеке. Керенский наклонился еще ближе к щеке, и губы его легли на кожу Зоси так мягко и естественно, что Зося не смогла, да и не догадалась отодвинуться. Керенский повернул голову Зоси к себе так, что губы его оказались против ее губ, но в последний момент Зося успела чуть отодвинуть их в сторону, и Керенский поцеловал ее в глаз, запутался губами в распустившихся волосах, и Зося, окончательно проснувшись, зашептала быстро и сбивчиво:
– Ты с ума сошел, уйди, а то я позову кого‑ни‑будь…уйди…
Губы Керенского наконец встретились с ее губами, какие‑то секунды Зося еще крепко сжимала зубы, но вдруг, помимо ее воли, она сдалась, сдалась как‑то сразу, она не укрывалась больше от его поцелуев, ей хотелось только, чтобы тот не отпускал ее и чтобы он не подумал уйти. Зося крепко прижала его к себе, и сквозь английское сукно защитного френча премьера Временного правительства она почувствовала тепло его спины, и широко открытый рот ее стал мягким и влажным.
Она еще успела шепнуть «не надо», но так тихо, что Керенский скорее мог понять совсем обратное, но в этот момент он вдруг поднял голову и, не отнимая руки от ее груди, сказал:
– Нам надо уйти отсюда. Здесь кто‑нибудь может пройти.
Зося вскочила и застегнула черную кожаную куртку.
– Мы сумасшедшие, – сказала она. – Мы же только что познакомились и совсем не знаем друг друга.
– А разве надо знать? – спросил Керенский и, наклонившись, поцеловал ее уверенно и сильно. Именно так, как Зося этого хотела.
Они долго плутали по полуосвещенным коридорам, минуя спящих на раскладушках юнкеров и редких часовых, клевавших носом на перекрестках коридоров.
– Ты лучше знаешь эти места, – сказал Керенский. – Ты же здесь работаешь.
– Направо, сейчас направо, – ответила Зося, и ей стало стыдно, что она ведет по Эрмитажу чужого человека. Ведь она всегда была верна мужу. Она вдруг захотела сказать об этом Керенскому, может быть, для того, чтобы он оценил ее жертву, но она подумала, что Керенский отделается ничего не значащим междометием и будет еще хуже.
Перед кабинетом Антипенко Зося остановилась. Поняв, что ей не хочется самой предпринимать никаких действий, Керенский осторожно приоткрыл дверь. Дверь вела в предбанник к секретарше Антипенки, Раисе Семеновне, которая сейчас находилась внизу, с другими женщинами ударного батальона. Клеенчатая дверь в кабинет Антипенки была заперта.
Керенский подошел к старинному кожаному дивану для посетителей и сел. Снял парик. Зося отошла к окну и посмотрела вниз, на площадь, где в рассветном тумане бродили часовые Красной гвардии.
– Иди ко мне, – позвал Керенский.
– Сейчас, – сказала Зося, но не двинулась с места. Керенский встал и, подойдя сзади, обнял ее.
– Я хочу быть с тобой, – сказал он.
– Пойми, я никогда раньше… Нет, – сказала она твердо. – Нет, если это и случится, то не здесь и не сейчас.
– Именно здесь и сейчас. В ночь перед революцией. В Зимнем. И помни, кто я!
– Я не могу этого помнить. Я не знаю, кто ты. То ли последний премьер России по имени Керенский, то ли Саша, то ли актер Нодар Яманидзе. А может быть, ты мне приснился?
Зося улыбнулась. Она повернула голову к Керенскому, и на мгновение упавший в окно свет прожектора очертил
золотым контуром ее четкий профиль, длинную шею и светлые коротко подстриженные волосы.
– Я никто, – ответил Керенский. – Я приснился тебе. И пусть это будет лучшая ночь в моей жизни. И в твоей.
Зося серьезно посмотрела ему в глаза, пытаясь увидеть в них нечто, неизвестное даже ей самой, но очень нужное, и так и не поняв, нашла или нет, закрыла глаза, чтобы в тот же момент почувствовать на веках его губы.
Керенский отвел ее к дивану.
– Садись, – сказал он, и она послушно села, не открывая глаз. Она знала, что больше не принадлежит себе, а принадлежит тому человеку, который сегодня ночью первый и последний раз в жизни управляет судьбами великой страны. И хоть ладони ее встретили не ежик волос, а курчавые тугие завитки…
В этот момент Антипенко проснулся, зашевелился спросонья на составленных у него в кабинете креслах и громко выругался.
Он поднялся, опрокинул стул, уронил на пол чернильницу и в кромешной тьме принялся искать выход из тюрьмы, в которую его засадил коварный алкоголик Извицкий.
Он не знал, что грохот упавшего стула заставил любовников в предбаннике отпрянуть друг от друга, не знал и того, что этим спугнул затаившегося в углу лазутчика красных, не знал, что разбудил этим грохотом караул у баррикад, не знал, что разбуженный караул у баррикад бросился к пулемету, не знал, что дежурный юнкер кандидат искусствоведения Извицкий решил, что началось, и пустил в воздух красную ракету, не знал, что, увидев ракету, пришли в движение цепи красногвардейцев, скапливаясь перед чугунной решеткой ворот арки Генерального штаба, не знал, что в ответ на красную ракету Извицкого взвилась такая же над Петропавловской крепостью и комендант ее, у которого остановились часы, решил, что восстание началось, и потому приказал пушке с Петропавловки дать сигнальный выстрел, не знал, что уже через минуту сидевший в полудреме у полевого телефона режиссер Ленинградского телевидения приказал включить все камеры, не знал, что еще через минуту телефон зазвонил в сонном здании Смольного, который не был еще готов к восстанию, не знал, что Свердлов приказал Подвойскому срочно мчаться на площадь и остановить этих идиотов, не знал, что этим начал Великую Октябрьскую революцию. На три часа раньше установленного срока.
11
– «Аврора»? «Аврора»! «Аврора»! – надрывался телефонист. – Не отвечает, Яков Михайлович, – сказал он, оборачиваясь к Свердлову.
– Странно, – сказал Свердлов. – Они должны быть уже на месте. Что бы могло приключиться?
– Подвойский на проводе, – крикнул другой телефонист.
– Ну‑ка, дай трубку, – сказал Свердлов. – И скажи кому‑нибудь принести черного кофе. Покрепче. Подвойский? Ну что там у тебя? Уже пошли? Как так не остановить? Да ты понимаешь, что «Аврора» еще не стрельнула? Ты понимаешь, чем это для тебя пахнет? Как минимум бюро обкома. Ладно, действуй. «Аврору» беру на себя.
Свердлов прошел к двери в другую комнату Смольного. В коридоре, в котором не успели сменить светильники на более старые, озаренные холодным светом люминесцентных ламп, стояли и сидели крестьяне, матросы и солдаты, в основном делегаты съезда, который должен был открыться вечером. Они ждали Ленина.
Революционеры Дыбенко, Крыленко и Коллонтай из Театра юного зрителя выскочили из двери напротив.
– Что творится! – сказала Коллонтай. – Что творится! «Аврора» не стреляет, Ленин пропал, и восстание началось на три часа раньше времени. Ведь весь Ленинград еще спит.
– Знаю, – отрезал Свердлов. – Дублер Ленина скоро приедет?
– Будят. Сильно пил вчера. День рождения у жены.
– Разбудить любой ценой и загримировать.
– Яков Михайлович! – высунул голову телефонист. – Есть связь с «Авророй»!
– Ну что там еще у вас? – просил нервно Свердлов. – Где пропали?
– Понимаете, какая оказия, Яков Михайлович, – сказал в трубке глухой голос. – На мель мы сели. Надо
буксир вызвать. Видно, фарватер за пятьдесят лет изменился.
– Так у вас же лот…
– Мы не думали. Да и пока не страшно. Буксир мы уже вызвали из Кронштадта. Часа через два будет. Так что мы успеем.
– Чего успеете? Восстание началось!
– Рано еще.
– Сам знаю, что рано. Замерзли, промокли, вот и поддались на провокацию. Вот что, «Аврора», стреляй прямо сейчас. Потом разберемся, где стояла.
– Не получится. Нас бортом развернуло, а пушка новая, не поворачивается. В ней все электронщики рассчитали, чтобы в какой другой дом не попасть. Так что ждем буксир. Все. До связи.
– Стреляй, мать твою! – совсем рассердился Свердлов.
12
Зося выбежала из дворца. В узкой щели между Эрмитажем и баррикадой уже толклись растерянные, но настроенные решительно юнкера.
– Где твои девчата?
– Сейчас разбужу.
Зося метнулась обратно во дворец и пробежала по широкой лестнице. Скорее! Она успела через баррикаду бросить взгляд на толпу у арки и первые цепи, поднимающиеся в атаку от Адмиралтейства. Цепи были черными, страшными и безликими. Они хотели взять Эрмитаж, разгромить его, а главное – убить Сашу. Зося забыла о том, что по плану у заднего входа должна стоять машина под посольским флагом иностранной державы. Да если бы она и вспомнила об этом, вряд ли это изменило бы ее решимость отстаивать Зимний. Саша в любом случае подвергался опасности.
– Вставайте, девчата, – трясла Зося подруг. – Вставайте. Началось!
– Ты с ума сошла, – сказала Раиса Семеновна. – Еще такая рань на дворе. Они нас раньше вечера взять не должны. Да и «Аврора» еще не стреляла.
– Прежде времени началось, – сказала Зося. – Нам от этого не слаще.
Ворча, ударницы поднимались с раскладушек, натягивали куртки и шинели, разбирали винтовки. Вбежал Колобок.
– Патроны к винтовкам в ящиках в вестибюле! – крикнул он. – Там же инструктор. Научит, как пользоваться.
Кто‑то нервно рассмеялся.
– Гражданская война начинается?
– Ну скорее же, девочки, милые! – умоляла Зося. – Скорее!
Она вернулась на улицу раньше девчат. За эти минуты цепи нападающих значительно приблизились.
Баррикада молчала.
Выбегая на улицу, ударницы сливались с мглой, окунались в сумятицу прожекторных побледневших лучей, криков и отдаленного барабанного стрекота.
С площади ударил пулемет.
– Прячься! – крикнул Симеонов, складывая свое крупное тело за ящиком из‑под карамели «Апельсиновые».
– Чего прятаться? – не унималась Раиса Семеновна. – Мне интереснее посмотреть. Сейчас, наверное, «Аврора» будет стрелять. Ведь интересно же.
И как бы в ответ на ее слова над рекой, над городом глухим раскатом ударила трехдюймовка. Где‑то далеко в стороне от Зимнего вспыхнул столб огня.
– Ой, красиво, девочки! – сказала Раиса Семеновна. И тут же упала, сраженная самой настоящей пулеметной пулей.
В то время защитники Зимнего, окружившие Раису, не знали, что единственный снаряд, выпущенный так неудачно севшей на мель «Авророй», попал по несчастливой случайности в левое крыло Смольного, где находилась телефонная станция.
С этой минуты Смольный был отрезан не только от площади Зимнего дворца, но и от обкома.
Зося в ужасе наклонилась над Раисой. В синем утреннем свете видно было, как на груди ее, сдавленной шинелью, выступает кровавое пятно.
Кто‑то заплакал. Кто‑то прошептал: «Хулиганы».
Колобок, появившийся из тумана, сказал авторитетно:
– Два юнкера. Ко мне. Отнести раненую. Раиса застонала.
– И не разбегаться! – прикрикнул на женский батальон Колобок. – Вас же по одной выловят. Кто не взял еще патроны, получите.
– Какое безобразие! – услышала рядом Зося голос. Керенский, скрестив руки на груди, стоял за ее спиной. Три или четыре министра, сопровождавшие его, невыспавшиеся, помятые, со стершимся гримом, в покосившихся бородах и бакенбардах, казались запуганными и неуверенными в себе.
Керенский нашел глазами Зосю и подмигнул ей. Подмигивание вряд ли было в тот момент к месту, но Зося вдруг почувствовала себя увереннее.
– Граждане свободной России! – воскликнул Керенский так, что его услышали даже на дальних концах баррикады. – Заговорщики хотят нас лишить великих завоеваний революции. Родина в опасности! Вы здесь – последний оплот свободы! И именно от вас, товарищи, зависит, спасем ли мы величайшие сокровища Эрмитажа, принадлежащие трудовому народу!
– Ураа! – рявкнули юнкера, охваченные благородным порывом.
– Ура‑ааа!!! – раскатилось в ответ по площади. Цепи восставших бежали к Зимнему.
– По противнику, над головами, кто из чего может, дружно, а‑гонь! – крикнул Симеонов, поднимая пистолет шестнадцатого века.
Баррикада ощетинилась вспышками выстрелов. Первая цепь остановилась и залегла.
– Сволочи! – послышалось оттуда. – Гады!
– Не снижайте революционной бдительности! – призвал обороняющихся Керенский и, резко повернувшись, ушел во дворец. На ходу он сказал Милюкову: – Сильно надеюсь на конницу генерала Краснова.
И эти его слова, разнесшиеся от человека к человеку по баррикаде, внушили веру в свои силы немногочисленным юнкерам.
Эти слова были тем более нужны, потому что от арки Генштаба кто‑то авторитетным голосом через репродуктор уже грозил административными и прочими мерами чересчур отважным юнкерам.
Утром Коган успел забежать домой. Выкроил минутку. Он полагал, что домашние спят. Ночь прошла в помещении ЦК партии Бунд сравнительно спокойно – к двум часам закончились прения, признавать или не признавать большевиков, и в конце концов приняли нейтральную резолюцию, призывающую подчиниться Учредительному собранию. А так как телевизионных камер на партию Бунд не хватило, то члены ЦК мирно улеглись спать, а Коган успел даже забежать домой, потому что он жил через дорогу.
Но жена не спала.
– Аркадий, – сказала она, – ты с ума сошел. Ты бегаешь по улицам, как мальчишка, в тот момент, когда уже стреляют.
– Ничего страшного. Вскипяти мне какао, – ответил Коган, кладя на стол толстый портфель с документами партии Бунд. – До начала всех этих представлений еще несколько часов. Да и в конце концов наша роль очень второстепенная – как не лягем, нас все равно поимеют.
– Мне уже соседка говорила, что из вас сделают козлов отпущения, – откликнулась жена из кухни.
– Это как так?
– Если людям дали какое‑никакое оружие и выпустили их на улицы кого с красным флагом, а кого с иконой, это плохо кончится только для евреев.
– Я бы сказал, что ты оппортунист, Роза, – ответил Коган, садясь за стол. – В нашей партии есть товарищи из райкома. А среди черносотенцев их еще больше. Это специально сделано, чтобы держать массы под контролем. И в конце концов, если ты так волнуешься, я могу тебе рекомендовать на сегодня уехать к сестре в Репино. Там нет никакой революции.
– А тем временем с тобой кто‑нибудь сведет личные счеты, и меня не будет рядом, чтобы перевязать тебе кровавые раны.
– Роза, ты с ума сошла! Ты забыла, что сегодня – пятидесятый год советской власти и это не революция, а мероприятие.
– А ты знаешь, что соседский Коля говорил своей маме, что они в самом деле собираются почистить Зимний дворец?
– Никто им этого не позволит. На это есть жандармы и народные дружинники…
Но договорить Коган не успел. Далеко бухнула пушка с Петропавловки, и в форточку квартиры на улице Герцена ворвалось раскатистое «ура». Это пошли на первый штурм цепи на Дворцовой площади.
– Ну вот, – сказала жена, и крупные слезы навернулись ей на глаза. – Теперь совсем будет плохо.
– Ошибка какая‑то, – сказал Коган, так и не допив какао. – Это не может быть восстание. Это, наверное, генеральная репетиция.
– Дай‑ка я включу телевизор, – сказала Роза. – Нас же должны в конце концов информировать.
Но экран телевизора только зашипел и пошел серыми линиями. Передач не было.
– Надо идти, – вздохнул Коган. – Я должен быть с партией.
– Ты с ума сошел, Аркадий, – ответила Роза. – Я запру тебя на ключ. Зачем ты хочешь рисковать своей жизнью? Разве ты мальчишка?
– Роза, ты не понимаешь, мое участие в Бунде – мой партийный долг. Если я брошу партию на произвол судьбы, то кто поручится, что завтра я не брошу в тяжелом испытании и Коммунистическую партию?
Коган хлопнул дверью и ушел, так и не добившись взаимопонимания с женой. Коган спускался по лестнице, и его тревожили мрачные мысли. Любое мероприятие должно идти по плану. И если оно вдруг идет не по плану, значит, случилось нечто отрицательное, непредвиденное. Но что?
Коган постоял за углом, пережидая, пока проедет казачий патруль. Странно, подумал он, если началось восстание, то весь город уже должен быть в руках восставших.
Убедившись в том, что рассветная улица пуста, Коган быстренько добежал до помещения районной заготконторы, переданной бундовцам. Там его уже ждали.
– Коган, ты знаешь, что уже случилось? – спросил Паплиян, направленный в Бунд не по национальной принадлежности, а в порядке партнадзора.
– Началось?
– Я пытался созвониться со Смольным, а они молчат.
– Как так?
– Есть подозрение… – Паплиян наклонился к самому уху Когана. – Есть подозрение, что «Аврора» попала своим снарядом в Смольный! Тшшш!
– Как узнал?
– Есть источники.
– И жертвы?
– Неизвестно.
– А как Ленин?
– Никто его не видел.
– Так. – Коган сел на потертый стул и опустил седеющую голову на ладони.
Зазвенел телефон.
– Я сам возьму, – сказал Коган. – Может, это Смольный.
– Говорит Государственная Дума, – сказал голос в трубке. – Большевикам пока не удалось взять Зимний. Вокзалы тоже в наших руках. Предлагаем подчиниться Временному правительству.
Раздался щелчок. На том конце линии упала трубка.
– Кто?
– Государственная Дума, – сказал Коган. – Ничего не понимаю. Предлагают подчиниться Временному правительству.
– Может, так надо? – спросил Грот.
– Не знаю.
– Ведь Бунд всегда был оппортунистической партией. И даже поддерживал Временное правительство.
– Я пойду, – сказал Паплиян. – Постараюсь проникнуть в Смольный или даже прямо в обком. Пусть дадут указания.
– Ладно, иди. А мы пока…
– Пока действуйте в соответствии с исторической правдой. Бунд поддерживал Временное правительство. Ну и вы поддерживайте. Только не очень активно. В общем сидите здесь и ждите.
Паплиян накинул плащ‑болонью и собирался уже идти, как его остановил Грот:
– Так не получится. Несоответствие. Возьмите зипун. У нас есть один. Чтобы народ не узнал.
Когда Паплиян ушел, Коган сказал:
– И может, к нам будут врываться?
– Кто?
– Черная сотня. Или, наоборот, красногвардейцы. Ведь никогда не скажешь, кто к нам хуже относится.
Грот склонил яйцеобразную лысую голову и сказал:
– В этом есть правда. Мы будем делать баррикаду. Стащили к входной двери все столы и шкафы. После этого члены ЦК почувствовали себя спокойней. По крайней мере голыми руками их уже не возьмешь. Снова зазвонил телефон.
– Это партия Бунд? – спросила трубка.
– Да, – ответил Коган. – Это наша партия.
– Говорит Викжель.
– Какой Викжель?
– Комитет железнодорожников. Мы в соответствии со сценарием отказались поддерживать связь с Москвой. Мы сейчас обороняемся от матросов и Красной гвардии. Нужна помощь. Вы могли бы нам прислать человек сто дружинников?
– Вы с ума сошли! – возмутился Коган. – Мы мирная партия. У нас есть только Центральный комитет, и в нем семь человек. Восьмой ушел за инструкциями в обком.
– Какой обком? – поинтересовалась трубка.
– КПСС!
– Дорогой товарищ, обкома КПСС не существует. Пока власть еще в руках Керенского.
13
К десяти утра атаки красногвардейцев стихли. Уже три раза цепь их накатывалась на баррикады и трижды отступала. Причиной тому было и упорство защитников, и разрозненные бестолковые действия руководителей наступления.
Подвойский и Антонов‑Овсеенко, которые должны были возглавить штурм на площади, этого сделать не смогли. По той причине, что Антонов‑Овсеенко, полагая, что раньше десяти часов его услуги не понадобятся, засел у своего приятеля, актера Ленфильма. А Подвойский, не имевший до того никакого военного опыта, узнав, что на Дворцовой площади вправду стреляют, на первой же электричке уехал в Выборг искать дыру в советско‑финской границе.
Из Смольного, поврежденного неудачным выстрелом «Авроры», не поступало никаких конкретных указаний. Общую суматоху увеличили туманные слухи о том, что убили Ленина. Слухи эти проникли на площадь еще на рассвете и упорно циркулировали среди частей путиловцев и военных моряков, несмотря на уверения инструкторов обкома, что такого быть не может, потому что Ленин вечно жив, а если что, то лежит в Мавзолее.
В девять часов начало работать телевидение и Интервидение. Телевизионные комментаторы читали текст по заранее заготовленным сценариям, показывали заранее снятые кадры, и потому телезрители, смотревшие на голубые экраны, часов до одиннадцати были полностью уверены в том, что восстание развивается именно так, как ему положено развиваться. На экранах темнела гордая «Аврора», демонстранты сталкивались с полицией, революционные солдаты в Гатчине отражали очередную атаку частей генерала Краснова. Все это было как на самом деле и очень интересно. То, что Смольный был отключен от передач, вряд ли вызывало у кого‑нибудь удивление – съезд Советов начнется только вечером.
Колобок зашел в вестибюль проведать раненых. Их набралось уже человек десять. Несмотря на многочисленные звонки в милицию, с площади продолжали стрелять боевыми патронами.
Две девушки из ударного батальона переквалифицировались в медсестер.
– Крепитесь, – сказал Колобок. – Крепитесь… граждане. Ваша кровь не пропадет задаром.
Ну и чепуху я несу, подумал Колобок. Людям же больно.
По коридору пронесся Керенский. Он тащил полевую рацию. Эту рацию юнкера захватили у нападающих в отважной и короткой вылазке.
Зося, измазанная грязью – ее швырнуло на землю воздушной волной, когда кто‑то бросил за баррикаду гранату, – шла за Керенским.
Рацию установили в зале заседаний совета министров. Министров оставалось вдвое меньше, чем раньше. Пять человек убежали из Зимнего на машине с иностранным флагом. Машина предназначалась для Керенского, но тому и в голову не пришло воспользоваться ею. Впрочем, может, и к лучшему. Машина в районе Пулковского аэропорта была задержана кордоном КГБ, и министры, жестоко избитые, были увезены в неизвестном направлении.
Недавно Керенский имел беседу с Колобком. Тот провел Керенского по залам. В зале Рембрандта окно было разбито камнем или пулей на излете и капли дождя подбирались к «Автопортрету с Саскией на коленях». Другие окна тоже пострадали.
После этого разговора Керенский надвинул парик пониже на лоб и взял винтовку. Идея с рацией принадлежала ему. В распоряжении генерала Краснова, который рвался к Петрограду под тщательным наблюдением кино– и телевизионных камер, находилось несколько дисциплинированных батальонов – курсанты мореходки имени Макарова и электронный факультет Инженерной академии.
Колобок догнал Керенского и Зосю уже в зале заседаний. С помощью радиолюбителя Извицкого они установили рацию и старались выйти на связь с Красновым.
В комнату вбежал окровавленный юнкер.
– Они ворвались с фланга!
– Откуда?
– Со стороны Адмиралтейства. Там большие окна.
– Вперед! – приказал Колобок.
Он несся по коридорам, тормозя каблуками на поворотах. Сзади стучали шаги Керенского, Извицкого, Зоси и юнкера. По дороге к ним присоединились некоторые легкораненые.
Они успели вовремя. В Зимний прорвалась небольшая группа матросов. Вместо того, чтобы развивать прорыв, матросы занялись стаскиванием гобеленов. Это промедление их и погубило. Колобок снял очередью из автомата первого из матросов. Второго свалил Извицкий.
– Гады! – кричали, убегая, матросы. – Мы еще с вами посчитаемся. Ни один живым не уйдет!
– Это точно, – согласился Извицкий, закладывая в кобуру пистолет. – Нам придется держать Зимний, пока не придет помощь.
– Откуда ей быть? – сказала Зося. Ей хотелось плакать. Ей было страшно.
– Без паники, – рассердился Керенский. – Сейчас мы свяжемся с Красновым.
Они возвращались по сумеречному коридору. Пустынный коридор медленно разворачивался навстречу. Со стен мрачно смотрели полководцы Отечественной войны. Орденские звезды слабо светились на темных мундирах.
Керенский взял Зосю за руку. Колобок покосился на них и тут же деликатно отвернулся. Хотелось спать. Со стороны фасада трещали пулеметы.
Колобок подумал: какое счастье, что нападающие придерживаются сценария и штурмуют дворец в лоб. Иначе бы не устоять – защитников мало, оружия и патронов почти нет.
– Ах ты, господи! – с отвращением произнес Керенский, когда они вернулись в зал заседаний. Министры, люди штатские и не терпящие кровопролития, окружили вернувшихся из карательной экспедиции и засыпали их пустыми и нервными вопросами.
– Вот что, – сказал Колобок, – совет министров попрошу следовать за мной. Можете считать себя мобилизованными в ополчение. Оружие возьмем у раненых. Будете защищать фасад.
– Это нарушение демократии, – сказал Милюков.
– Без разговорчиков! – вспылил Керенский. – Я, председатель совета министров, не гнушаюсь носить в руках оружие. Граждане свободной России…
Зосе показалось, что из глаз Саши вылетели две молнии и поразили на месте министров.
– Граждане свободной России! Революция в опасности!
Пораженные силой, изливавшейся от Керенского, Милюков и Гучков бросились к двери. Они спешили получить оружие.
Вернулся Извицкий.
– Несладко там, на площади. По‑моему, они откуда‑то откопали «катюшу»,
– Давай быстро, ищи Царское Село.
Колобок подошел к окну. В самом деле, от Невского медленно ехала, окруженная солдатами и матросами, старая «катюша». Видно, осаждающие взяли ее в Артиллерийском музее.
– Всем уйти с верхних этажей, – приказал Колобок. – Укрыться за мешками и ящиками. Приготовить огнетушители.
Дежурный юнкер побежал выполнять приказание, а Колобок остался стоять у окна, одним ухом прислушиваясь к настойчивым призывам Извицкого о помощи. Вокруг «катюши» между тем разворачивалась какая‑то свалка. Сначала Колобок подумал, что откуда‑то пришла помощь Зимнему, но тут же понял, в чем дело: это были кинооператоры. «Катюша» нарушала им весь антураж. Операторы требовали убрать «катюшу» с площади и продолжать штурм средствами семнадцатого года.
Колобок не видел деталей и подробностей – только мелькали руки, и даже девятикратный морской бинокль, случайно оказавшийся в зале заседаний, не мог помочь. И Колобок только угадал, что свалка закончилась тем, что «катюша», поврежденная, но еще боеспособная, снова двинулась вперед.
Защитники дворца не знали, что в свалке у «катюши» полегли основные кадры кино и телевидения. С этого момента репортаж с Дворцовой прекратился.
14
В 13.30 Зимний установил связь с батальонами генерала Краснова. Это случилось через несколько минут после того, как ударный батальон Зоси в неполном составе отчаянным броском прорвался к «катюше» и вывел ее из строя. Батальон потерял тридцать четыре человека убитыми, ранеными и уведенными путиловцами в плен на поругание. Зося, раненная в руку и голову, лежала на раскладушке в переполненном лазарете. Рядом, закрыв глаза, потихоньку стонал министр Милюков. Он проявил храбрость, туша пожар на третьем этаже от попадания снаряда «катюши».
Зимний держался…
– Зимний? – удивился генерал Краснов. – Вы еще держитесь? До меня дошли слухи, что штурм начался на рассвете. Я уж думал сворачивать наступление. А то трудно удержать моих мальчиков. Они вошли в раж и еще немного – в самом деле прорвутся к Ленинграду.
– Планы изменились, – сказал Керенский. – Властью Временного правительства приказываю немедленно двинуть вперед все ваши части. Революция в опасности!
– Да, но у меня нет указаний из обкома.
– Дело сейчас не только в указаниях. У нас половина личного состава – раненые и убитые. Патроны кончаются. И без шуток! Если вы генерал Краснов, то выполняйте
свой долг. Вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы прорваться к нам.
– Да я не Краснов, – сказал генерал. –Моя настоящая фамилия Перепелкин. Я преподаю химию и обществоведение.
– Тем более. Тогда я повторяю: товарищ Перепелкин, забудьте о том, что вы Перепелкин. Вы сейчас – Краснов, и от вас зависит судьба революции.
– Ничего не понимаю, – сказал Краснов.
– И нечего понимать. Подчиняйтесь.
– Слушаюсь, – сказал Краснов.
– Проверю через час. В случае чего будем судить по законам военного времени.
Керенский бросил трубку и уже привычно отер париком пот со лба. Зазвонил телефон.
– Говорит Викжель. Мы еще держим Московский вокзал.
– А мы держим Зимний, – ответил Колобок.
– Нам бы подкинуть подкрепление.
– Не можем. Защищайтесь сами.
Керенский потуже натянул парик и спросил у Колобка:
– Интересно, как там Государственная Дума?
– Никаких сведений.
– Не послать ли нам разведку? – спросил Керенский. – Мы же не знаем, что творится в Петрограде. Может быть, положение еще не плохо. Может быть, где‑нибудь еще есть порядок?
– А кого послать?
– Симеонов пойдет. Верный человек. Керенский нахмурился.
– Где‑то здесь должен крутиться наш Розенталь.
– Какой еще Розенталь?
– Он отвечает за нас, за Временное правительство. Довольно деятельный мужичок.
– А где он прячется?
– Знаю, где, – сказал Гучков. – Он санитаром у нас в госпитале.
– А ну‑ка, кликни его.
15
…Керенский проводил разведгруппу до самых боковых дверей, выходящих на Летнюю канавку. Розенталь и Симеонов, одетые солдатами, в высоких потрепанных папахах, неловко замялись перед дверью, пока пожилой юнкер из хозуправления перебирал ключи, отыскивая подходящий.
– Ну, во имя свободы! – сказал Керенский. – Попытайтесь пробраться в Смольный, может быть, в обком. Главное, это касается вас, Симеонов, побывайте в Государственной Думе.
– Ясно, – сказал Симеонов. Он почему‑то завязал один глаз черной, сомнительной чистоты повязкой. – Постараемся.
– У меня большие связи в Думе и обкоме, – сказал Розенталь. – Все будет в порядке.
Розенталь первым проскользнул на улицу. Симеонов раздвинул створки двери объемистыми плечами, последовал за ним.
– Сбегут, – сказал юнкер с ключами. – Обязательно сбегут. Особенно этот шустренький.
– Мы вынуждены идти на риск. Людей мало. Керенский поднялся в госпиталь.
Зося не спала. Она узнала его по походке и сама удивилась, как много успела узнать об этом человеке за одни сутки.
– Как тебе? – спросил Керенский, присаживаясь на кончик раскладушки.
– Не опрокинь меня, – постаралась улыбнуться Зося. – А вдруг я останусь калекой?
– Не говори глупостей, – сказал Керенский. – В новой России будет много хороших врачей. И все они будут счастливы поставить тебя на ноги.
– Ради тебя?
– Ради тебя самой. Твое имя напишут золотыми буквами…
– Кончай, Саша, без громких слов. Все это кончится строгачом. Если не хуже.
16
В два часа Коган собрался было пойти пообедать, но Грот его отговорил.
– На улице все время скачут какие‑то казаки и анархисты. Я пытался добежать до угла купить сигарет, но не смог. Они шли с черным знаменем.
– Казаки?
– Нет, анархисты. И еще они кричали: «Да здравствует Учредительное собрание!»
– М‑да… Зимний еще держится?
– Стреляют.
– Стреляют‑стреляют. Вы мне скажите, откуда не стреляют? Паплиян так и не вернулся.
И как бы в ответ на слова Когана кто‑то постучал в дверь.
– Кто там?
– Свои, – ответил глухой голос.
Коган посмотрел на Грота. Грот – на Когана. Из соседней комнаты вышли остальные бундовцы.
– Что будем делать? – спросил Коган.
– Да это же я, Паплиян. И со мной еще один товарищ.
– Паплиян? А как мое имя‑отчество?
– Да Коган, Аркадий Аркадьевич. Что еще за штучки‑мучки?
– Отодвигай, – сказал Коган. – Если Паплияна не взяли в плен, то это он.
Бундовцы отодвинули шкафы, и в комнату вошел Паплиян. За ним робко скользнул и остановился в уголке небольшой человек, закутанный в башлык поверх солдатской папахи. Из‑под башлыка выглядывали толстые запотевшие очки. Человек снял очки и протер их полой шинели.
– Познакомьтесь: товарищ Розенталь. Из Зимнего, – сказал Паплиян.
– Из Зимнего? Разве в Зимнем еще не большевики?
– Если помощь не придет вовремя, то будут большевики.
– Я был в обкоме, – вставил Паплиян. – Там товарищи держат связь с Москвой. Принято решение не завершать штурма, пока не начнется съезд Советов. То есть до ночи. И еще… – Паплиян оглянулся – вроде бы свои? – …и еще говорят: пропал Ленин.
– Что?
– Никто не знает, где Ленин. Юнкера его не задерживали. Больше того, «Аврора» на мели.
– Она же стреляла.
– Не туда. Она попала в Смольный.
– Вот дела, – сказал Коган.
– А пока, – вставил человек из Зимнего, который был Розенталем, – пока наш долг – удержать Зимний.
– Да, – подтвердил Паплиян. – В обкоме тоже так думают. По крайней мере пока не загримируют нового Ленина. Или не найдут старого.
– А если нет?
– Тогда… – Паплиян перешел на громкий шепот: – решено вызвать Кантемировскую дивизию и кончить дело.
– А что мы можем сделать? – удивился Коган. – Мы же маленькая партия и совсем не пользуемся влиянием в массах.
– Сколько у вас здесь людей?
– Меньше десяти, – ответил Коган. – И в большинстве своем освобожденных от воинской повинности.
– Защищать родину – долг каждого гражданина Советского Союза, – строго сказал Розенталь. – Оставьте здесь одного человека у телефона, а остальные пойдут со мной к Государственной Думе.
В голосе Розенталя звучала сталь. Центральный комитет партии Бунд надел пальто и галоши и, взяв в руки зонтики, пошел к Государственной Думе.
На улице было холодно и промозгло. Розенталь думал о Симеонове, который пошел в Смольный и исчез. Розенталь прождал его минут пятнадцать, скрываясь за углом Смольного института, но так и не дождался. Или Симеонова взяли, или он изменил.
На опустевшем Невском, неподалеку от Думы, бундовцев остановил казачий патруль.
– Нам в Думу, – сказал Розенталь. – Я из Зимнего, а эти товарищи, то есть граждане, из партии Бунд.
– Не положено, – сказал казак. – Давай отсюда. Тут уж были добровольцы. Старались проникнуть.
– Что там у вас? – спросил молодой жандармский урядник.
– Просются в Думу. А может, с бомбами.
– У меня есть мандат, – сказал Розенталь. – От Керенского.
– А ну покажи.
Розенталь долго распутывал башлык, чтобы забраться за пазуху. Члены Бунда переминались с ноги на ногу под пристальными взглядами казаков.
– Вот, – сказал Розенталь наконец. – Подписанное товарищем Колобком. Комендантом Зимнего.
– У вас там должен адмирал один быть. Иван Сидорович, – сказал урядник, разворачивая мандат. – Он с моей мамашей из одной деревни.
– Его нет, – сказал Розенталь. – Я его знаю. Он в самом деле из райкома. Он написал большой донос на гражданина Керенского и сам повез его в Москву.
– Ну‑ну, – сказал урядник. – Он уже тогда дерьмом был. На отца написал, раскулачили. А вам чего в Думе?
– Зимнему плохо. А сдавать его нельзя.
– Это точно! – сказал урядник и пропустил делегатов.
Около Думы шла небольшая демонстрация правых сил, направленная в поддержку существующего режима. Казаки и полицейские равнодушно смотрели на демонстрацию. Они послушно охраняли врагов революции, но больших симпатий к ним не испытывали, как не испытывали к контрреволюции симпатий и сами демонстранты – на девяносто девять процентов члены профсоюзов, ДОСААФ и Общества охраны памятников.
Розенталь велел своим бундовцам заняться поисками оружия, а сам поднялся в зал заседаний Думы. В этот момент депутат от меньшевистской фракции призывал покончить с кровопролитием. Розенталь послушал немного горячую речь меньшевика и подумал, что тот говорит дело. Слева зашикали – центр и правые скамьи аплодировали.
Розенталь обогнал следующего оратора и взбежал на трибуну.
– Вы кто такой? – спросил председатель.
– Я делегат Зимнего, – сказал Розенталь.
И слова эти произвели гипнотизирующее впечатление на Думу. Такое выступление не было запрограммировано, ни слова о нем не было в программках, задолго до этого розданных депутатам.
– Граждане свободной России! – неожиданно для самого себя словами Керенского начал свою речь Розенталь. – Зимний в опасности! Вы не имеете права повторить ошибку семнадцатого года!
Что я говорю? – мелькала между тем в его голове мысль. – Меня же возьмут прямо здесь, в зале. И Розенталю хотелось остановиться и убежать из зала, но ни остановиться, ни убежать он не мог. Если бы его попросили объяснить, почему же он этого не сделал, он развел бы руками, потом снял толстые очки, протер стекла и сказал бы: «Знаете, такие бывают в жизни случаи…»
– Там, в двух шагах отсюда, гибнут, защищая сокровища Эрмитажа, ваши товарищи. Раненые и убитые девушки и женщины, молодые люди – кандидаты и доктора наук, престарелые профессора – все встали на защиту Зимнего. Сам товарищ Керенский с винтовкой в руках отражает беспрерывные атаки под огнем противника. Только час назад одна из лучших женщин Зимнего, командир женского ударного батальона, замечательный общественник, мать и жена, была тяжело ранена, отбивая у врага «катюшу», из которой было сделано несколько роковых выстрелов по Зимнему, в результате чего безвозвратно испорчена картина Тинторетто «Снятие с креста».
Негодующий шум прокатился по залу. Через полчаса Розенталь увел к Зимнему всех правых и центристских депутатов.
17
Уже стемнело, и Керенский, на минуту отойдя от баррикады, забежал в здание напиться. Водопровод работал. Туда же пришел Колобок.
– Сколько у тебя осталось?
– Шесть человек и восемнадцать патронов. Точно знаю, – сказал Керенский.
– У меня не лучше. Но, по‑моему, они устали и разошлись обедать.
– Далеко не все. Вон там – мои юнкера видели – приехала полевая кухня.
– Как с Красновым?
– Должен быть уже у Московского вокзала. Это неплохо. Соединится с железнодорожниками.
– Я ему говорил об этом.
– От разведчиков ни слуху ни духу.
– И из Думы не отвечают. Телефон все время занят. Может быть, бросили трубку?
– Да, еще час‑два продержимся, а потом кранты.
– Да, тем более что они решили уже идти на решительный штурм. Скоро начнется съезд.
– Откуда знаешь?
Вспомни историю. Вечером был последний штурм и Зимний пал.
Колобок, исхудавший и почерневший за последние сутки, подождал, пока Керенский напьется из последнего стакана, оставшегося в буфете, и налил себе воды.
– Как Зося? – спросил он.
– Скорее бы все кончилось. Ей надо в больницу. Ладно. – Керенский подобрал винтовку и пошел к выходу. – Сейчас не время для таких разговоров.
– Урааа! – донеслось с площади.
Колобок догнал Керенского в дверях. Они остановились на ступенях, глядя на площадь. Она казалась единой темной массой. За последние часы к атакующим подошли большие подкрепления, в основном за счет анархистов, черносотенцев, которым надоело быть черносотенцами и захотелось войти в историю с лучшей стороны, и, наконец, за счет многочисленных любопытных, покинувших дома после того, как телевизоры перестали передавать репортаж с места событий, а переключились почему‑то на мультфильмы.
Темная масса угрожающе ревела: « Урра!» и надвигалась на жалкую цепочку израненных юнкеров и женщин, и казалось, стремление ее к победе было настолько неотвратимо, что даже дивизия горцев не смогла бы остановить народ. И всем защитникам Зимнего, начиная от Керенского и кончая уборщицей тетей Полей, было ясно, что случится, когда восставшие ворвутся во дворец.
Правда, они не знали, что в этой атаке были задавлены или жестоко избиты немногочисленные инструктора и организаторы, что пытались как‑то образумить революционные массы и вернуть их в русло законности и порядка.
Последней лентой плеснул в стену атаки пулемет, захлопали разрозненные выстрелы, и Колобок достал из кармана последнюю и единственную гранату.
И тут другое «Ураа!» – не такое, может, громкое и яростное, но весьма весомое, – донеслось с другого конца площади. Как бы вдогонку за нападающими из‑под арки выскочила толпа разнообразно одетых людей, вооруженная чем попало, но тем не менее единая в своем боевом порыве.
Впереди толпы бежал Розенталь, и концы башлыка развевались за ним, как вожжи взбесившейся лошади.
Неожиданный удар сзади на какие‑то мгновения ошеломил атакующих. В тылу их завязалась быстрая, непонятная свалка, где тузили друг друга и свои, и чужие, а над толпой иногда взлетали зонт Когана, знамена, очки и галоши.
Однако первые ряды продолжали бежать вперед, в пылу боя не слыша и не понимая, что происходит сзади.
И оставалось каких‑нибудь двадцать шагов до баррикады, уже Колобок кинул последнюю гранату, уже замолчал пулемет, уже Керенский и два десятка верных юнкеров приготовились броситься врукопашную, как по революционной массе прокатился страшный крик:
– Нас предали!
Ряд за рядом на площадь с улицы Степана Халтурина выходили части генерала Краснова.
Несмотря на долгий марш, на тяготы пути и стычки с милицией, которые пришлось выдержать от Пулковских высот до Зимнего, верные солдаты Краснова шли спокойно и уверенно. Они выполнили приказ.
Генерал Краснов, потерявший в бою половину бороды, ехал впереди на белом коне.
Вот уже первые цепи солдат столкнулись с народом, и, складываясь гармошкой, черная масса начала отступать к Адмиралтейству. Люди бросились по трамвайным путям к Исаакиевскому собору, и, может быть, бегство и полный крах штурма Зимнего еще можно было предотвратить, но, как назло, именно по трамвайным путям шли сплоченными рядами братишки – матросы «Авроры» во главе с Грушевым, которые за неимением другого дела решили взять Зимний.
Бегущие красногвардейцы решили, что это тоже части Керенского, и поняли, что окружены.
Несколько шумных, бестолковых и мятущихся минут тысячи людей бегали, сшибая друг друга, по площади, но наконец паникующая толпа сшибла и разорвала морской отряд и исчезла, развеиваясь и скрываясь по подворотням.
Последние защитники баррикады выбежали на площадь, заваленную мусором, который неизбежно остается после всякой революции, и кинулись брататься с союзниками.
Генерал Краснов не очень умело слез с коня, подошел к Керенскому и молча пожал ему руку.
Керенский хотел сказать, что во всем происшедшем основная заслуга принадлежит простому народу, интеллигенции, сотрудникам Эрмитажа, но слезы душили его, и он отвернулся от генерала.
Председатель Государственной Думы взобрался на поваленный набок контейнер с надписью «Морфлот СССР» и жестом пригласил Керенского, Гучкова, Колобка, Розенталя и Краснова лезть к нему.
– Наш народ, – закричал он, стараясь достать голосом до краев площади, – всегда был долготерпеливым! Сегодня мы продемонстрировали это всему цивилизованному человечеству. Мы отстояли цитадель российской демократии против большевистского заговора. Победа далась нам дорогой ценой. Нет среди нас некоторых отважных…
Оратор запнулся. На языке вертелось слово «товарищей», но это слово относилось к прошлому, его не должно быть в обиходе председателя Государственной Думы. Но нового слова он пока не знал.
– Граждан свободной России, – подсказал генерал Краснов.
После него говорил Керенский. Он призывал к бдительности. Он предупредил, что хребет большевизма треснул, но еще не сломался. В любой момент может начаться новый штурм.
Публика на площади гневно отозвалась на такое предположение.
Генерал Краснов негромко сказал Керенскому:
– Вряд ли.
– Почему?
– Потому что Смольный пал, – сказал Краснов. Эти слова стали слышны на площади, и люди принялись радостно кричать.
– Я послал туда эскадрон, – продолжал Краснов, теперь уже в микрофон. – Но там мы не нашли никого, кроме технического персонала и нескольких пьяных красногвардейцев во главе с неким матросом Железняком. Руководители обкома и горкома разбежались.
По площади прокатились волной аплодисменты.
– А где Ленин? Ленин где? – кричали снизу.
– Пропал, – развел руками генерал Краснов. После окончания митинга Краснов сказал Керенскому:
– Вам бы поспать минут шестьсот. На вас лица нет.
– Нельзя, – сказал Розенталь. – Александр Федорович – реальная власть в Ленинграде.
Тут же он осекся, потому что такого города уже не было.
Ночью между двумя заседаниями, охрипший от споров с председателями колхозов, которые категорически отказывались вернуть землю крестьянам, Керенский заехал на «газике» в больницу, к Зосе. Дежурная сестра не хотела его пускать.
– А мне все равно, что вы Керенский или полковник КГБ, – сказала она. – Больной нужен отдых.
– Хорошо, – сказал Керенский и дал сестре десять рублей. – Вы только покажите мне, где ее палата.
– Не стоило меня подкупать, – сказала сестра, как бы смиряясь с судьбой.
Керенский прошел за ней по тускло освещенному коридору.
У двери в палату, откинувшись на спинку стула, дремал, открыв рот, черноволосый, заросший щетиной человек в железнодорожной фуражке. Керенский решил было, что кто‑то посадил к Зосиной палате телохранителя, но сестра рассеяла эту надежду.
– Ихний муж, – сказала она. – Очень за нее переживает.
Керенский не стал подходить к двери, а пошел обратно.
Он вовремя успел на совещание правительства. Грузия требовала независимости, Курляндия высказывала территориальные претензии к Лифляндии. С совещания Керенского дважды отзывали к телефону. Первый раз позвонил папа Римский, передал поздравления от католиков всего мира, затем по вертушке позвонил Брежнев.
– Александр, простите, Федорович? – спросил он.
– Керенский слушает.
– Я не спрашиваю вашего настоящего имени‑отчества, – сказал Брежнев. – Это уже не нужно.
– Почему? – удивился Керенский.
– Потому что я отдал приказ стратегической авиации нанести удар по городу Ленина. По родному нашему Ленинграду…
Брежнев громко всхлипнул.
Трубка звякнула. Раздались короткие гудки.
Керенский, с трудом заставляя себя поверить в слова Брежнева, все ускоряя шаги, кинулся в зал заседаний Смольного. Совет министров заседал в апартаментах обкома.
– Что случилось? – Генерал Краснов, новый министр обороны России, сразу понял, что произошло неладное.
– Ракеты… бомбы… – с трудом ответил Керенский, держась за косяк двери. – Стратегическая авиация.
Министры и иные случайные люди начали вскакивать со своих мест.
– Господи! – кричал кто‑то высоким голосом. – Надо же принять меры!
Упал стул… Краснова толкнули, и он выругался басом.
– Они не посмеют! – закричал от двери Розенталь.
– Они все посмеют, – сказал Краснов.
– Но тут же памятники искусства, это же колыбель революции.
– По колыбели залпом… пли! – крикнул в ответ министр внутренних дел Колобок.
Он крикнул так громко, что все подняли головы – показалось, что это настоящая ракета.
Но было тихо.
Все стояли, слушали, но было тихо.
Так же в Кремле у вертушки стоял Брежнев и ждал, тихо рыдая, доклада пилотов.
Наконец зазвонил, заверещал телефон.
– Ну и как? – спросил Брежнев, хватая трубку.
В открытую дверь сунулись белые лица членов Политбюро.
– Нет. – сказали в трубке. – Наши по Ленинграду не хотят! Город Ленина… нельзя!
– Я так и думал. – сказал Брежнев и выпустил трубку. Она стала покачиваться, головой вниз, у самого ковра. – Вот так. товарищи.
Последнее относилось к членам Политбюро.
– Может поднимем Кантемировскую дивизию? – спросил Суслов.
Никто ему не ответил.
Брежнев брал со стола карандаши, часы, мелкие вещи, рассовывал их по карманам. Вдруг его прорвало.
– Какой к черту Ленин? – закричал он, краснея. – При чем тут ваш… Ленин?
– Уходим в подполье? – спросил Суслов. Брежнев не ответил.
____________
История со сгинувшей и найденной повестью имела продолжение.
Весной 1993 года мне позвонил из Петербурга режиссер Виктор Мельников и сказал, что ему в руки случайно попал тот самый, единственный экземпляр повести. Может ли он снять по повести фильм?
Фильм был снят за лето, практически без денег, на энтузиазме, правда, не всеобщем, потому что некоторые приглашенные актеры отказались сниматься, мотивируя это тем, что «когда коммунисты вернутся к власти, они мне это припомнят».
Фильм вышел на экран в октябрьские дни 1993 года, что склоняет к философским размышлениям об особой социальной роли фантастики и пользе полежать четверть века в письменном столе. На октябрьскую годовщину 1994 года фильм показали вновь. Оказалось, что он еще не устарел.
Таким образом, повесть опять опоздала появиться. И делает это лишь сейчас.
1968–1995 гг.
Отсюда:
http://www.fictionbook.ru/author/buliychev_kir/vzroslaya_6_osechka_67/buliychev_...;
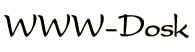
 Главная
Главная

 Справка
Справка

 Поиск
Поиск

 Вход
Вход





 Страниц: 1
Страниц: 1