Если бы можно было это куда-то еще во что-то печатное пристроить...


[А.К.Герцык. «Из круга женского». Стихотворения, эссе. Москва, «Аграф», 2004 г.
Не так давно ваша покорная слуга сделала открытие (изобрела, можно сказать, велосипед): нельзя судить о поэте по лучшим его стихам. И по худшим – тоже не надо. И вообще – одних стихов недостаточно. Когда речь идет даже о крупном поэте золотого или серебряного века русской поэзии – века, когда не было «узкой специализации», непроходимой стены между поэзией и прозой, литературой и критикой, искусством и философией, ролью и жизнью – тогда необходимо учитывать все. Всю цельность поэтической личности, включающую и (может быть, неудачные) эксперименты в «не своем» жанре, и (возможно, необъективную) критику, и (может статься, наивное) философствование, и (почти обязательно, пристрастные) оценки современников.
И тем более это необходимо, если речь идет о поэте «второго ряда». Может быть, за не слишком ярким или недостаточно самобытным поэтическим талантом таится и остается нераспознанным какое-нибудь иное, может быть, гораздо более редкое и ценное дарование? Может быть, обаяние личности поэта и его духовный облик даже более достойны внимания, чем любой литературный гений? Тогда уж тем более не обойтись без прозы и критики «незнаменитого поэта».
Все это наличествует в книге «Из круга женского», вышедшей в текущем году в издательстве «Аграф» и включающей в себя стихи и эссе А.К.Герцык, а также воспоминания о ней.
Внешние – не столь уж многочисленные – события биографии Аделаиды Казимировны Герцык, равно как и лучшие из ее стихов, были мне известны давно. Небогатая немецко-польская семья, не слишком набожные протестанты, позаботившиеся об образовании дочерей и не сделавшие из Ады и Евгении провинциальных кисейных барышень. Потом – Европа и книги, от Ницше до Франциска Ассизского, несчастная любовь (в традициях, однако, ницшеанства – вопреки «затхлой» морали) и глухота в результате потрясения, стихи, больше в стол, чем для печати, известность среди современников скорее статьями и литературным салоном, в котором бывали не только писатели, но и философы, дружба с Вячеславом Ивановым, увлечение теософией, переход в православие, позднее замужество и дети, революция и несколько страшных лет в Крыму (красный террор, белый террор, голод и нищета), и смерть от истощения организма в возрасте пятидесяти двух лет.
Это было мне известно; и по стихам можно было заподозрить, что недостаточно скудной и трагической биографии, чтобы до конца понять эту глухую сивиллу Серебряного века – одну из немногих истинных среди толпы тогдашних лжесивилл, лжепророков и прямых «шарлатанов слова».
Почему я сразу решила, что Герцык – «истинная»? Почему, если уж на то пошло, я вообще воображаю, что тогда были «истинные»? Потому ли, что Аделаида Казимировна написала:
Мне нет названия,
Я вся – искание.
В ночи изринута
Из лона дремного –
Не семя ль темное
На ветер кинуто?
В купели огненной
Недокрещенная,
Своим безгибельем
Навек плененная…
Но ведь именно эти самые стихи, если кто не помнит, были процитированы в романе З.Гиппиус «Чертова кукла». Юруля, главный герой его, «составил» их кропотливо и хладнокровно, с затаенной насмешкой над «знаками» и «соответствиями» символизма. Составил, да и вручил дамочке полусвета – пусть заявится в утонченный символистский салон и изобразит там одухотворенную молодую поэтессу. Можно, в этой связи, задать пространству пару вопросов, которые напрашиваются сами собой: чем же одна литературная дама так не угодила другой, что та отвела стихам первой столь жалкую роль, и заслужила ли «Башня» Вяч. Иванова (а по некоторым деталям это была именно она!) такой, с позволения сказать, остроумный розыгрыш. Но можно вопросов не задавать, а просто констатировать факт: стихи подобного рода ничего не говорят о написавшем их, кроме того, что он символист или подражает символистам.
Таковы все ранние стихи Герцык – достаточно своеобразные и очень утонченные: тут и «отравленность мифом», по выражению И.Анненского, мистицизм, сочетание народной напевности с самым рафинированным модернизмом. Одни эпиграфы к первой книге стихотворений чего стоят: плач Ярославны и… Ницше. Но, во-первых, раннее творчество Герцык не всегда совершенно по форме, страдает чрезмерной отвлеченностью, слишком оторвано от реальной жизни, и, по словам Брюсова, является скорее «попыткой, исканием, бледным намеком на новые возможности», чем творчеством уже состоявшегося поэта, а во-вторых – сколько их было, таких мистических масок! И какие, по правде говоря, невыразительные физиономии за ними скрывались! И сколько горя, в конце концов, эти личины приносили своим владельцам!
Все было бы так, если бы не вот это:
А душа поет, поет,
Вопреки всему, в боевом дыму.
Словно прах, стряхнет непосильный гнет и поет…
…
А кругом стоит стон.
Правят тьму похорон.
Окончанье времен.
Погибает народ.
А душа поет…
Что это? Фантазия поэта, который, по словам Мандельштама, «от легкой жизни сошел с ума» и теперь хочет примерить на себя образ певца народных бедствий, этакого трагического барда? Так можно было бы решить, если бы не дата: зима 1921-1922 г. Бессердечие оторванного от жизни идеалиста, которому нипочем даже реальные беды живых людей? И это могло быть справедливо, если бы не было указано место написания – Крым. Стало быть, и сама Аделаида Казимировна хлебнула того же горя – мало не покажется. Значит, было реальное мужество, позволившее встретить тоталитарный век… нельзя сказать слов «во всеоружии», но все-таки небеззащитной духовно.
Откуда эта стойкость? Как она получилась, откуда выросла? Чем, по отношению к ней, был эстетический мистицизм прежних годов? Ошибкой молодости, как "бражники и блудницы" Ахматовой? Необходимым ли этапом развития, без которого не было бы и повседневного героизма последних лет?
Книга "Из круга женского", сборник стихотворений и эссе А.К.Герцык, а также воспоминаний о ней и стихов, посвященных ей, позволяет если не ответить на этот вопрос, то по крайней мере привести какие-то соображения на этот счет.
Внутренний облик поэтессы, ее увлечения и мысли легко восстановимы по этим источникам.
Детство Ады было сомнамбулическим, реальная жизнь (родители, гувернантка, дом) – скучной повинностью, игры – реальной жизнью. Игры – в своем, особом понимании этого слова, "если можно назвать игрой потребность видоизменять все окружающее, одаряя его собственным смыслом и придумывая ему свои объяснения" ("Из мира детских игр"). Потому и вызывали только тяжелую скуку навязанные взрослыми объяснения тем явлениям, которым про себя можно было придавать какие угодно великолепные и таинственные смыслы. Не умея читать, Аделаида обожала книги, а научившись – плакала от разочарования, потому что больше не могла прочитывать их по-своему, наделяя прежде немые буквы великим множеством удивительнейших значений, всякий раз – разных.
Девочка была от природы религиозной, хотя ничего в ее семье и окружении этому не способствовало – не отличавшиеся набожностью протестанты-родители не ходили в церковь, а гувернантки были все сплошь француженками и швейцарками. Но... "нужно было и хотелось верить кому-нибудь без дум и сомнений. Был же кто-то самый умный, такой важный и большой, что нельзя его понять, а нужно только слушаться, становясь перед ним на колени. Это был Бог. <...> Я знала отдельные предметы, одаренные силой; это были, конечно, только маленькие частицы и проявления Его власти, но по ним я узнавала о Нем".
Потому и был придуман ритуал, который несколько лет еще совершали Аделаида и ее младшая сестра Евгения, тоже писательница в будущем: в Троицын день девочки тайком рассыпали по полу куски сахара и собирали их. А основанием этому послужило всего лишь то, что в одну из Троиц маленькая Ада совершенно случайно уронила сахарницу. Точно так же один из ряда совершенно одинаковых растущих у дома тополей стал «царским», и девочки несколько лет, изо дня в день, проходя мимо него, кланялись ему. Были и другие предметы и действия, наделенные тайным смыслом – в качестве игры, но совершенно всерьез, потому что, по собственному признанию, Герцык никогда не играла "в шутку и понарошку".
Лишь изредка просыпалось сомнение – есть ли Бог "не для игры, а настоящий"? Но ответом на эти сомнения была, опять же, игра: "Пусть сейчас один желтый лист слетит мне прямо на колени! Если он упадет туда – значит Ты есть, - и больше мне никогда ничего не надо!"
Впрочем, эту "религиозность", как и все в своих детских впечатлениях, Герцык ценила невысоко и даже осуждала. "В то время как необычайно развивалось воображение и способность комбинировать свои впечатления – нравственное чувство оставалось в самом зачаточном состоянии", - писала она о своих детских играх. И была убеждена, что замкнутость и мечтательность надолго затормозили ее развитие как личности и навсегда сделали "сторонней зрительницей жизни".
Мечтательность и самоуглубленность, фанатическая увлеченность чем-то, не имеющим отношения к реальной жизни, свойственны были Аделаиде Казимировне всю молодость («Мои блуждания», «Мои романы»). "Это были пережитые романы – но романы с книгами или авторами их, хотя не менее реальные, решающие судьбу, переплавляющие душу, чем жизненные истории с живыми людьми. В моей судьбе перевес остался за теми первыми, и лучшие силы и жаркое чувство были навсегда отданы им".
Казалось бы, вот уж где махровый эскапизм, непростительный для взрослого и психически нормального человека. Детские игры – на то и игры, чтобы быть "не как в жизни", но когда подобным мечтам предается взрослая девушка или женщина... Да на лесоповал ее, лентяйку, или коров доить, как сказала бы моя бабушка.
Спору нет, и Аделаида Казимировна согласилась бы первая, что труд и активная жизнь обогащают и развивают человеческую личность, но я бы для себя добавила одно: осознанный труд и осознанная жизнь. Но личный опыт осознается нелегко, он завладевает эмоциями и не хочет поддаваться анализу. Пожалуй, только долгий – подготовительный – период размышлений над чужими словами и мыслями позволит когда-нибудь принять и свой аналогичный опыт. Необходимо было Аделаиде Казимировне перестрадать, переплакать судьбу несчастных детей – всегдашних жертв взрослых конфликтов и взрослого эгоизма, как описала она в своей статье "Дети в произведениях Ибсена", чтобы, десять лет спустя, ради собственных детей стойко принять все невзгоды житься во взятом красными Крыму.
И еще одну важную вещь может сделать книжный опыт - сделать так, что своего не понадобится.
Таким "непонадобившимся" опытом стала для Аделаиды и "влюбленность" в лирическую героиню итальянской поэтессы Анны Виванти, непосредственную и страстную, бесстыдно любующуюся своей красотой и смелостью, презирающую "мораль" и "приличия" – обладающую всеми теми чертами, которых так не хватало тихой, робкой Аделаиде, ведущей поразительно упорядоченную и добродетельную жизнь. Сначала была влюбленность, были мечты о том, что и сама она – сродни этой современной Кармен, носящей в рукаве каталанский нож, и переодевания тайком у себя в комнате в пеструю цыганскую одежду, и маленький костяной ножик в руке. Но потом - разочарование в ней, потому что страсть, и свобода, и coltello catalano в рукаве героини Виванти были юношеской позой. Как узнала Аделаида, познакомившись с братом поэтессы, "бесстыдная цыганка" стала примерной женой и матерью, и, перестав писать стихи, взялась за нравоучительные романы и критические статьи.
"Свершилось что-то важное. Нет прежней Анни. Все, чем она пленила меня, все, не похожее на мою жизнь – кончилось. <...> И нет стихов. Иначе и не могло быть. Поэзия была выражением той, другой, угасшей, девической, безрассудной души... И я понимала с мучительной ясностью, что одна я не смогу идти дальше по тому пути, на который она завела меня. <...> И мне нужно пойти по другому пути – никто не оправдает больше так горячо и убедительно право свободы, страсти и красоты, - надо опять жить сурово, ответственно и искать себе другого..."
Надо ли было Герцык ломать себя и брать в руки настоящий нож, а не костяной - лишь для того чтобы понять: "Это не мое"?
И был очень странный опыт – ценный для поэта и писателя, а для Герцык, по страстности и экзальтированности ее натуры, ставший еще и опытом любви. Объектом его стало слово. Цитата из Гумбольдта, встреченная в книге Потебни "Мысль и язык", о том, что "язык похож на сад, где есть цветы и плоды, где есть зеленые листья и листья сухие, опавшие, где рядом с умиранием идет вечная жизнь, рост и развитие" не то чтобы перевернула ее мироощущение – что-то подобное она ощущала и раньше – но дало ее мыслям новое направление. Аделаиде захотелось раз и навсегда исключить из своей речи банальности, перестать брать чужое и мертвое туда, где может быть создано свое и живое. Но и не только это – Аделаида не только хотела избавиться от мертвых слов, но и не умертвить слова живые: боялась породить свои собственные штампы, затаскать до полного стирания смысла случайно найденные или прочитанные удачные слова. "Никогда жизнь моя не была так самоотверженна, как в ту эпоху, я <...> отказалась от исканий, жизни духовной и эстетической во имя этих маленьких, ставших мне близкими созданий, - ибо, услышав трепет их жизни, я считала себя призванной охранять и лелеять их. <...> Это было воистину впервые испытанное и пережитое материнство".
Казалось бы, и тут неадекватность. Никто не спорит, умение бережно обращаться со словом – очень важно, но зачем такая аффектация? Пожалуй, что и незачем, и опять же, с этим бы смиренно согласилась и сама Аделаида Казимировна. Но мало ли примеров было, когда самая здравая, умная и правильная мысль не доходила до людей, воспринималась скучным и обыденным морализаторством, слезовыжимательным сентиментальным лопотанием, на которое можно только лицемерно покивать головой, вздохнуть и... тут же забыть? И напротив, как самые убогие по своему содержанию идеи и концепции находили невероятный отклик, благодаря умению их автора владеть словом. Но Аделаида Казимировна не была виновна ни в одном из вышепоименованных поступков – никогда о вещах важных и нужных не говорила она бездушно или нарочито слезливо, не опускалась ни до канцеляризмов, ни до дежурных слащавостей и красивостей, но и лживых идей не проповедовала прекрасным языком. Она говорила предельно серьезно - и воспринимать ее было можно только всерьез.
Но, помимо мечтаний и блужданий, было во внутренней жизни Герцык и еще одно, что почти сразу примиряет со всеми странностями этой личности - ощущение человеческого тепла и нежности к окружающим. Никогда «чудачества» Аделаиды Казимировны не были за счет близких. Они не отгораживали ее от реального мира, не делали ее глухой к чувствам людей, как, увы, очень часто бывает у «тонких и чувствительных» натур. Пусть общалась она с немногими – но их она любила преданно; пусть мир Аделаиды Казимировны был ограничен рамками семьи, дружеского круга и книг – но в этом мире никому не было неуютно.
Очень обаятельна Герцык в воспоминаниях и в стихах, посвященных ей – внешне невидная, чуть глуховатая, тихая и немногословная, ласковая и заботливая, хозяйка (вместе со всей сестрой, тоже писательницей) литературного салона, в котором уютно и приятно всем, обыденная и простая, чья простота, однако – чуть ли не таинственней масонского посвящения. И судя по ее собственным воспоминаниям – несмотря на неловкость, на страх невольно "навредить", сказать бестактность, сделать больно, все-таки она всегда умела отыскать нужные и бережные слова для каждого, кто к ней бы ни обратился, не оскорбляя ни равнодушием, ни фальшью.
Аделаида Казимировна находила верный тон и в разговоре о детях («Из мира детских игр», «Из детского мира», "Неразумная"). Говорила трогательно и нежно, умиленно, но не умильно, равно обо всех – о собственных детях и племянниках, и о героях книг, вдумчиво и любовно отмечала каждую мелочь, каждую незначительную детальку мира детства, всерьез, без взрослой снисходительной небрежности, воспринимая чувства ребенка, тем самым давая и читателям понять, как из детства вырастают внутренний мир взрослого.
По-видимому, Герцык принадлежала к редкому и непопулярному тогда типу – женщины-матери и сестры, не желающей или мало желающей "эмансипации" (ее свободу и так никто не стеснял) или "роковой любви". Она была воплощением чистого материнства, в ее жизни не было стремления к жадному и полнокровному женскому счастью, для которого дети – скорее помеха, чем радость. Вот уж воистину – идеальная женщина по Толстому!
И вот из этих тенденций, из двух, казалось бы, противоречащих друг другу составляющих – нежной внимательности к людям и погруженности в мир фантазии, из непрекращающейся борьбы между ними сложилась личность Аделаиды Казимировны Герцык. Отними хотя бы одно – не было бы ни повседневного, невидного со стороны героизма последних лет ее жизни в нищем Крыму, и не было бы потрясающего, парадоксального взлета творчества.
Не будь настоящей, а не декларируемой только, любви к людям, стремления ради служения им отвоевать себя у грез - не миновать было бы Аделаиде Казимировне увлечения великолепной и зловещей "музыкой революции", как увлекалась она сама страстными стихами Анны Виванти и как увлекся революцией Александр Блок. Или – бесконечных малодушных сожалений о прошлом, страха и неприкаянности, бессознательной полуживотной подлости, диктуемой инстинктом самосохранения, когда слетит весь флер "интеллигентности" и от прежнего прекраснодушия ничего не останется. Увы, и до этого могла дойти интеллигенция!
Не будь мечтаний и фантазий, из детства вырастающей религиозности, останься одно материнское чувство – не было бы поющей души, "вопреки всему". Послереволюционные бедствия выковали бы железное, само по себе почти религиозное чувство долга, суровое и безрадостное, насупленное и тяжелое, не признающее снисхождения и сентиментальности, упорное и до глумливости безбожное. Такой характер изредка встречается и ныне среди стариков, по чьей молодости прокатились танки Гражданской или Отечественной; он не может не внушать глубочайшего почтения – но нельзя и не сожалеть (хотя плевали они на нашу жалость!) о безрадостной безблагодатности этого героического поколения.
Не так у Аделаиды Казимировны. Годы страха и нищеты стали для нее временемлучших стихотворений, вдохновеннейших религиозных гимнов. Ушли утонченная прелесть ранних стихов, "шелест древних трав" и разноцветье мифа. Они не могли не уйти, ибо им было не место в этом аду, зато, уйдя, они уступили место молитвенной сосредоточенности духа, пронзительной ясности и пророческой простоте – одному из тех немногих вещей, которыми человек может противостоять ужасу нового века:
В этот судный день, в этот смертный час
Говорить нельзя.
Устремить в себя неотрывный глас –
Так узка стезя.
И молить, молить, затаивши дух,
Про себя и вслух,
И во сне, и въявь:
Не оставь!
***
Ты грустишь, что Руси не нужна ты,
Что неведом тебе ее путь? –
В этом сердце твое виновато:
Оно хочет забыть и уснуть.
Пусть запутана стезя!
Спать нельзя! Забыть нельзя!
Пусть дремуч и темен лес –
Не заслонит он небес!
Выходи поутру за околицу,
Позабудь о себе и смотри,
Как деревья и травы молятся,
Ожидая восхода зари.
Нам дано быть предутренней стражей,
Чтобы дух наш, и светел, и строг,
От наитий и ярости вражьей
Охранял заалевший восток.
Таковы же и "Подвальные очерки". О самых страшных событиях повествует писательница без ненависти и надрыва, не проклинает, не расплескивает на картину мазков черной краски, а находит слова для тех немногочисленных крупинок радости и надежды, которые остаются арестантам в чекистских подвалах. Все подобные мелочи любовно подмечает взор Герцык: материнскую и братскую любовь, нарочитую вежливость узников друг с другом, стремление во что бы то ни стало сохранить уют,– все то, что позволяет сохранить достоинство, остаться людьми, не слиться в отупевшую от безысходности массу.
И то ли это еще другой век, то ли поколение другое – еще свободное, не приниженное и не забитое десятилетиями террора, но насколько светлее настроение этих очерков, чем, допустим, тон рассказов Солженицына, не говоря уже о Шаламове!
"Ураган, долетевший из мира, вихрем закружился здесь, не сдерживаемый ничем, сметая все на своем пути, избороздил землю и души людские, и глубокие неизгладимые руны начертал на всей стране, мученическим венцом увенчал ее... – И ныне мы, уцелевшие, может разбирать эти письмена, прозревая в них высший смысл и вечную правду. <...> Я знаю, что не исчерпаны силы жизни, я чувствую, что зреют и наливаются новые плоды, но мало надеюсь увидеть их и изведать их сладость и могу лишь собирать цветы на старых могилах..."
Подвижничество, а не ярмо, житие, а не существование, а смерть – мученический венец, а не бесславное окончание всего, что есть. Нужно быть, по крайней мере, на пути к святости, чтобы чувствовать так на самом деле, а не в – сколь угодно возвышенных – мечтах, которые американские психологи именуют "daydreams".
Но рассуждать о святости – дело Церкви, богословов и священников, а мне, читателю, ясно одно: эта поэтесса, малоизвестная при жизни и совсем забытая после смерти, последовательная до конца символистка, обладала тем строем души, какой – как домашнему гусю изгиб лебединой шеи – разве что в завистливых снах снится какому-нибудь богемному светилу, но который придает истинную поэтичность всему, к чему эта душа бы ни прикасалась. И это была высокая поэзия - не в силу литературной гениальности, какой не было, а в силу высокого строя души.
И тем обиднее, что мало кто помнит сейчас Аделаиду Герцык. Объясняется ли это только пренебрежительным отношением ко всем поэтам «второго ряда», или не ко двору пришлась глухая сивилла двадцатому веку, так что и не поверит наш современник ни в туманные символистские иносказания ранних ее стихов – в «павлинов с перьями звездными», в «молот, высекающий новую скрижаль», в «истому дальнюю, стелющуюся по ветру» - ни в религиозное мужество «души, поющей вопреки всему». Куда ближе оказалось цветаевское:
Андре Шенье взошел на эшафот,
А я живу, и это смертный грех.
Есть времена железные – для всех,
И не поэт – кто в порохе поет…
Экзистенциальное бунтарство, которое не было позой и за которое Марина Ивановна, будучи последовательной до конца, заплатила жизнью, оказалось более созвучным нескольким поколениям двадцатого века и не может не вызывать уважения. Но сейчас, увы, и оно уходит в прошлое. На что ориентироваться хотя бы моему поколению, нынешних двадцатипятилетних, еще не очень ясно, не говоря уже о более младших. Не хотелось бы думать, что мы так и останемся без духовного пути – застрянем в мире фантазий, потратим жизнь на ностальгию по "золотому веку", или просто во всем разочаруемся. Дай Бог, чтобы это все-таки было не так и мы нашли или создали себе нечто, вовсе небывалое!
Может быть, нам чем-нибудь в этом поможет книга Аделаиды Герцык? Пусть стихи ее не могут быть образцом для подражания, пусть поэт, желающий научиться мастерству, ничего в них не найдет – но стихи и статьи Герцык являются метками, глядя на которые, можно проследить восхождение чужой души; следами, по которым можно пойти или не пойти; координатами, относительно которых можно прокладывать свой собственный духовный путь.
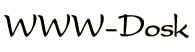
 Главная
Главная

 Справка
Справка

 Поиск
Поиск

 Вход
Вход





 Страниц: 1
Страниц: 1