Отменяем последнее действие. Взлом
событийности. Скучный монтаж мишуры.
Поцелуй через небо. Лицо за стеклом.
Электронная версия старой игры.
Технология жизни без боли. Беда –
в защищённости чувств. Безопасный транзит.
Не пугает ничто, никого, никогда.
Никогда. Никому. Ничего. Не грозит.
Облако причаливает к горе.
К облаку причаливает самолёт.
Так ли уж важно в этой простой игре,
кто и кого насколько переживёт?
Братское небо, влажная простыня.
Звёзды ложатся в пашню плечом к плечу.
Семя двудольное, космополита, меня,
пусть закопают в космос. Я так хочу.
Сам себя — из бумаги в журавлика. Хрипнет манок,
поднимаются крылья, приходит прекрасный кураж, но
глянь: мохнатые трупики бабочек — прямо у ног.
С каждым днём их становится больше. Становится страшно.
Так стерильна любовь в наших порознь лежащих телах,
так похожа на скальпель, что, кажется, мы поспешили
превратиться в цветы на семи обгоревших стволах
у дороги, ведущей к еврейскому кладбищу в Лилле.
Шаг назад — от бездарных богов и разумных рабов.
От себя. Чтобы жить, как бумажная эта фигурка,
кочевать по периметру неба в семье воробьёв.
Быть своим. Но всегда наотлёт, точно руки хирурга.
И снова о жестах. Пространство, лишённое речи,
уже не пространство, а клетка, мечта полицая.
Ладонь поднимается в воздух, дразня и переча,
и движется слева направо, меня отрицая.
Да что там — весь мир отрицая. Бряцая цепями
на длинных запястьях под хлопковыми обшлагами,
движения рук порождают прозрачное пламя,
как будто из воздуха складывают оригами.
Лишиться бы голоса, рот набивая печеньем
в каком-нибудь доме забытом — своём или отчем…
Нет речи — и нет обречённости. Нет отреченья.
Осталось одно красноречие жеста. Но, впрочем,
эстетике всплеска цвета неважны. В чёрно-белом
люмьеровском смокинге, мир экспрессивен и краток;
любой персонаж, отрисованный углем и мелом,
изыскан, как лайковый вектор полёта перчаток.
Запутался. Хватит. Пора затыкаться. Вполне бы
хватило и просто сидеть, как сверчку на нашесте,
держа на ладонях, воздетых к спокойному небу,
не дар немоты, а любовь, воплощённую в жесте.
На стоянках бесед, точно боль на лице, видна
потребность, не справившись с логикой перевода,
предметам придумывать новые имена.
Так, наугад безымянную прежде воду
называя водою, не то чтобы видишь суть
воды или жажды, а просто хватаешь свёрла,
дырявишь мембрану и открываешь путь
звуку, который не может покинуть горло.
Всё беспечней ночные стоянки. Слова в золе,
как слитки недрагообсценного. Но однажды
вода исчезает — вся и на всей земле.
Здесь-то и понимаешь, что значит — жажда.
Опять землетрясение. Вулкан,
плеснув огня в подставленный стакан,
добавит к патентованному зелью
негромкое: запомни — баш на баш.
Бери в кредит. Когда-нибудь отдашь,
удобрив пеплом небо или землю.
Дым из окна. И тот же дым — в окно.
Так азиат, надравшийся в… смешно
сказать, но я скажу — бутылкой пива,
лежит и выдыхает кислый смрад,
обратно задыхая аромат
засиженного чайками залива.
Словечки… Знаешь, собственный язык
похож на катехизис для заик -
всё камерно и вкусно, но попробуй,
пропой. А, впрочем, каждому своё.
Событие влечёт со-бытиё
и раздражает, как блоха под робой.
Мы выживем. Я выживу свой срок,
она — меня. Прохладный ветерок
то бьётся оземь, то бросает наземь,
то освежает, как удар под дых.
А жизнь, что не делилась на двоих,
теперь легко поделим даже на семь.
Кузнец, мне скоро стукнет пятьдесят.
Не страшно, если — не: инфаркт назад
я понял, что живу чрезмерно нервно.
Но, видишь ли… однажды старый страх
проступит, точно вены на ногах.
А это эстетически неверно.
В далёкой дали, за орбитами планет
танцует женщина, похожая на свет.
А рядом — там, где сушится бельё,
танцует свет, похожий на неё.
Играет сын, похожий на неё.
Кружится мир, похожий на неё.
Танцует женщина. И на её плече -
танцует космос в тоненьком луче.
Сестра моя, для каждого из нас
уже случилось нечто, безвозвратно,
и медленные пчелы аккуратно
последний собирают мед. Парнас
оскудевает жизнью, музы немы.
В беседах вымирающей богемы
такая лень, так монолитен зной
с утра до крика полуночной птицы,
что, как улитке, хочется укрыться
в непрочное жилище за спиной.
Покойно привалившись к валуну
я жду веками, превращаясь в глыбу.
Ты мне покажешь красную луну
чуть выше мира. Я скажу: спасибо.
И жуткий дар пытаясь отворить
ладонями и сердцем, в укоризне
опять приду к тому, что в этой жизни
все мерится способностью дарить
и принимать дары.
Сестра, незримо
войди в меня, останься, оживи
в моих стихах, на побережье Крыма.
Луна светла. Ни слова о любви.
Был горький дым, когда на небе утлом
пять с половиной тысяч лет тому
я сотворил тебя в шестое утро
в Крыму.
Улыбка мира, девочка, растенье,
меж нами только древний воздух снов
и рук неторопливое цветенье
и слов.
Тугая речь срывается и вьется,
смеется, упивается собой.
...а заполночь такая боль начнется,
что — пой!
Меж нами — только воздух. Слишком прочен
его гранит; его табачный гул
горячечным касанием порочен,
сутул.
Сестра моя, пока глаза, темнея,
не смеют ни сказать, ни изменить,
я буду ждать, поскольку ждать больнее,
чем жить.
Но если эта ночь устанет длиться,
позволь мне, жено, голосом седым
упасть к твоим коленям и разбиться
о дым.
Улыбнусь мимо окон — и мне улыбнется в ответ
городская Диана с подножки ночного трамвая,
загорелой рукой пневматический свой пистолет
в ненадежное небо к осенней луне воздевая.
Так стреляй же, охотница. Здесь, в темноте, на краю,
на горбатой околице бедного третьего Рима,
подари мне шальную печальную пулю твою,
обручальную пулю с кольцом обручального дыма.
А потом — за глоток до рассвета — ты помнишь? — вдвоем
заболеем, прольемся безмолвной, закушенной страстью
в зарастающий медленным бледным сиянием дом
через стекла холодные — хрупкие, точно запястья.
http://www.shiryaev.com/
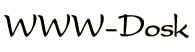
 Главная
Главная

 Справка
Справка

 Поиск
Поиск

 Вход
Вход





 Страниц: 1
Страниц: 1